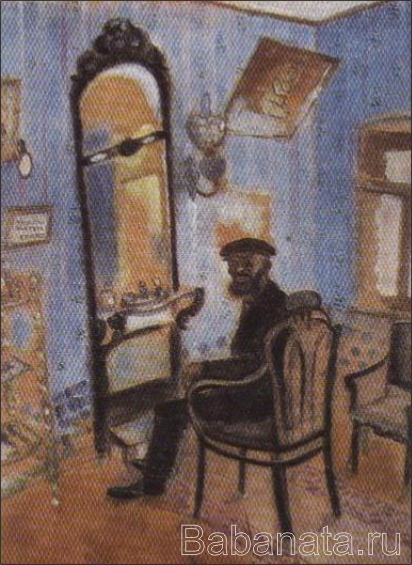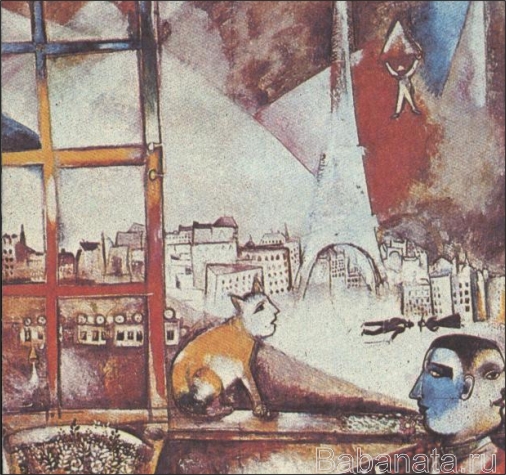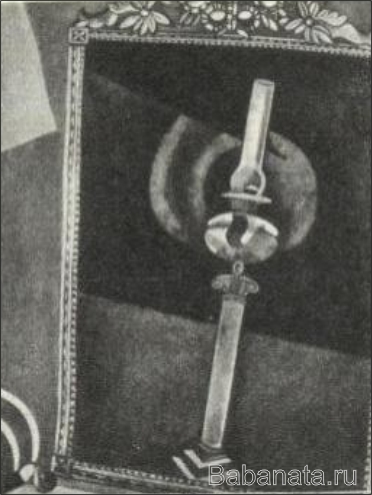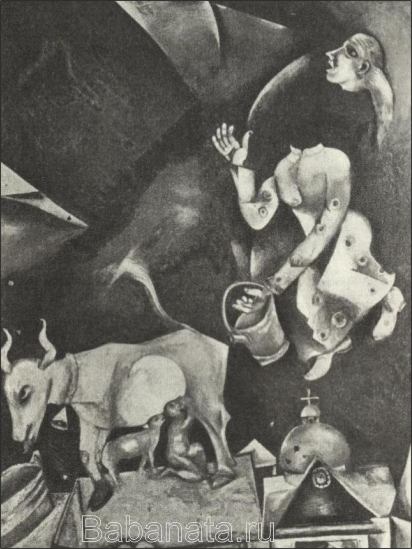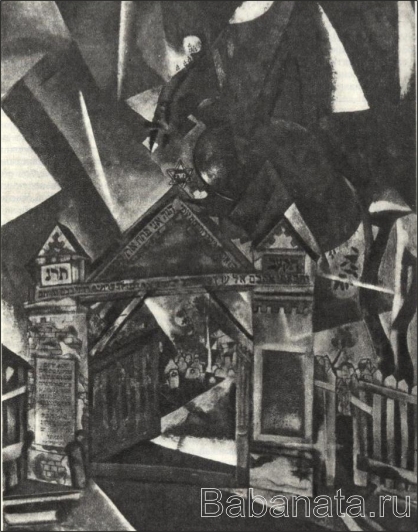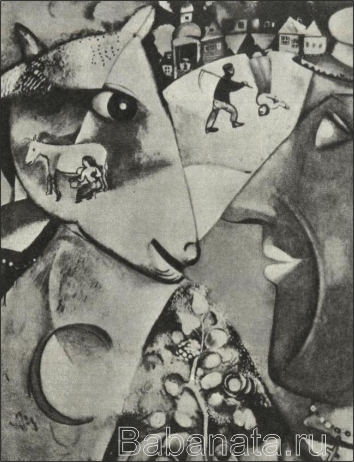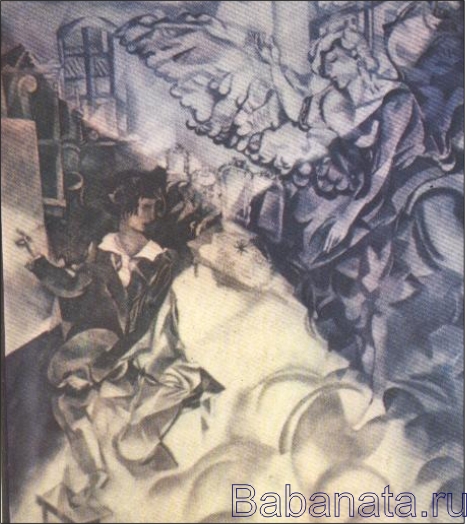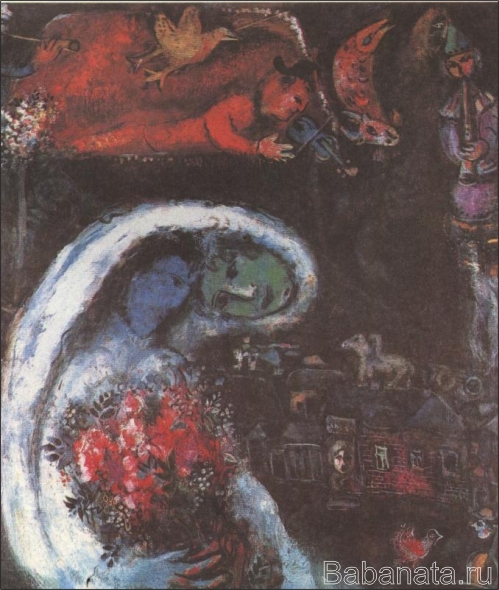Шагал Марк
Шагал Марк
Марк Шагал, который , казалось, всю свою долгую жизнь был на виду, задал немало загадок исследователям своих картин.
«Я — русский художник,» — говорит он. Всю жизнь он любил говорить «Не будь я евреем, я не был бы художником….» Обижался, когда слышал во Франции: «Он кто угодно, только не французский мастер.» И в то же время твердил: «Париж — мой второй Витебск.»
В издательстве «Искусство ХХI» вышел том «Марк Шагал. 1887-1985». Автор Василий Ракитин. Жизнь Шагала развёрнута как кино-лента. Полноправный автор — мастер Николай Калинин. Потому что перед нами — альбом, обрамляющий биографическое исследование выполненное на самом высоком полиграфическом уровне, на прекрасной бумаге, на каждой странице фото художника и его близких, и воспроизведение неповторимых творений Марка Шагала. Человека, ставшего одним из символов XX века и коренной связи нашей эпохи с вечными библейскими истинами.
Некоторые работы представлены в разворот; такие, как, к примеру, легендарное панно «Введение в еврейский театр; чудом обнаруженное в годы перестройки. Или его потрясающая «Обнаженная над Витебском», созданная Шагалом в страшном 1933 году. Именно тогда его картины были сожжены в Германии.
«Библейское послание», витражи, гобелены, полузвери, влюбленные и святые, летающе под небесами — все выстроено в иллюстративном ряду книги.
Сам текст Ракитина очень сжатый, насыщенный. К безусловным достоинствам работы относится и то, что автор очень широко использовал архивные и опубликованные материалы. Здесь и документы из фондов РГАЛИ, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Россйской национальной библиотеки. Очень широко привлечена периодика — уникальные издания предреволюционных и революционных лет. Газеты «Искусство Коммуны», «Биржевые новости», витебская «Вечеерняя газета», газета «Речь», Русские эмигрантские газеты «Рассвет», «Последние новости», уникальные каталоги многочисленных выставок, на которых выставлялись произведения мастера. Письма Родченко, воспоминания Эфроса. Фалька и, конечно, * Моя жизнь> написанная самим Марком Захаровичем.
Цитаты из всех этих источников широко представлены в книге. Здесь, рядом с картинами и рисунками, словно слышен голос мастера: «Наслаждайтесь или ругайте. Все равно я ничего не понимаю в себе. Может быть, я даже не умею рисовать и писать. Надо бы начать учиться всему этому, но поздно? — писал он искусствоеоду Александру Шику.
В этом не было ни капли позы. Просто мастер каждой своей работой заново открывал мир, и именно поэтому они производили такое впечатление. «Детское живет в человеке до седых волос» — говорил Александр Грин. Наверное, Марк Захарович умел найти это спрятанное, светлое и наивное чувство.
«Я устал быть персонажем, летающим с моих картин» — Это тоже слова мастера, иногда хотевшего разделить себя и героев своих полотен. Но в сознании тысяч людей, которым помогают жить произведения Шагала его светлый облик накрепко спаян с его творчеством.
Перед нами разворачивается огромное полотно жизни и работы мастера начиная с 1887 года когда в белорусском местечке Лиозно в семье приказчика селедочной лавки Хацкеля-Мордухая Шагала (все его звали просто Захар) родился первенец до дождливого марта 1965 года, когда он оставил этот мир в чудесном городке Сен-Поль-де-Ванс на Лазурном Берегу, неподалеку от Ниццы.
Когда в 1973-м он посетил СССР, это было равносильно шоку — слишком Марк Захарович не вписывался в социалистический реализм. Да и искусствоведы наши в прежние годы не отличались особой толерантностью к художнику. Прорыв был огромен. И не только в искусстве. Выставка Шагала знаменовала открытость совершенно другому миру, который так долго клеймился как чуждый и враждебный.
Интересно, что он так и не поехал в Витебск, который сделал бессмертным и известным всей планете. Наверное, этот удивительный человек сердцем почувствовал известную мудрость: «Никогда не возвращайся в прежние места». Кто мог знать, что спустя не так много лет там из дома на Покровской улице, где жила многодетная семья Шагалов, выселят отделение милиции и сделают музей мастера И поставят ему памятник…
Остается только позавидовать тем, кто возьмет этот альбом в руки и еще раз прикоснется к чуду творчества великoro художника — Марка Захаровича Шагала.
Виктор ЛЕОНИДОВ
По страницам книги.
Я предполагаю, молодым читателям понравятся фрагменты из автобиографической книги художника Марка Шагала *Моя жизнь». Книга была написана давно. Так же давно Шагал стал одним из знаменитейших художников XX века. Книга у нас еще не печаталась по чисто историческим причинам. Надеюсь, она скоро будет опубликована. Судя по отрывкам, книга написана броскими, емкими фразами-мазками, как бы фрагментарно. Но картина разворачивается широкая. Целая жизнь. Когда я читал, особое внимание обратил на слова: *Искусство должно быть состоянием души. Душа у всех священна, у всех двуногих во всех точках земли. Свободно только честное сердце, неподвластное чужой логике, чужому рассудку. Другие, может быть, выделят другое. Читаю этот отрывок о трудных и бедных днях жизни Шагала. Я вижу ту роскошную его виллу во Франции, в Полъ-де-Вансе, где мне посчастливилось побывать, когда Шагалу уже шел девятый десяток. Путь к всемирной славе и преуспеянию лежал через веру в свое видение мира, через фантастический труд. Это единственный достойный путь к той вершине, на которую может подняться человек к концу своей жизни. Пусть это будет не Эверест, а невысокий холм. Холм, а не низина, не яма, не пропасть, куда человек может опуститься.
Виктор РОЗОВ.
Моей мастерской была комната в нашем дворе. Чтобы туда попасть, надо было пройти через кухню хозяина, где этот огромный бородатый старик, торговец кожей, сидел у стола и пил чай. Когда я проходил мимо, он слегка поворачивал голову: «Здравствуй».
Моя комната наполнялась яркой голубизной, падающей через единственное окно. Свет шел издалека: с холма, где находилась церковь. Я любил рисовать на своих картинах и эту церковь, и маленький холм.
Бросался на кровать. Холсты на стенах… Пыль, единственный стул, худой стол.
Белла стучит в дверь, тихо стучит своим тонким пальчиком. У нее в руках ветки рябины — зелень, пронзенная красным.
— Спасибо,— говорю я,— спасибо.
И не только словом. Темно. Я ее целую.
В уме волшебно рисуется натюрморт. Она позирует для меня. Легла, белая нагота округляется.
Я робко подхожу. Признаюсь ей, что впервые вижу обнаженную женщину. Хоть она почти моя невеста, я боюсь к ней приблизиться, дотронуться до этой красоты. Будто, блюдо выставлено перед твоими глазами.
Я сделал этюд и повесил его на стену.
На следующий день мать приходит ко мне: «Это что такое?»
Голая женщина, груди, темные пятна. Мне стыдно, ей тоже.
— Убери эту девушку! — говорит она.
— Мамочка! Я тебя очень люблю. Но… ты никогда не видела себя голой? А я смотрю и только рисую. И все.
Но я слушался мать. Я снял это полотно и написал другую картину, процессию.
Вскоре после приезда в Петербург я отправился сдавать приемный экзамен в Училище технического рисования барона Штиглица.
На экзамене я провалился. Пришлось поступать в более доступную школу — при Обществе поощрения художеств, куда меня приняли без экзамена в третий класс.
Что я там делал? Трудно сказать. Многочисленные гипсовые головы греческих и римских граждан выступали изо всех углов, и я, бедный провинциал, должен был вдохновляться злосчастными ноздрями Александра Македонского или другого гипсового идиота. Иногда я подходил к этим носам и постукивал по ним, а в глубине зала подолгу рассматривал пыльные груди Венеры.
Я не мог равнодушно смотреть на здешних учеников, которые, потея, давили бумагу резинкой. В сущности, они были неплохие ребята. Мой семитский тип возбуждал в них любопытство.
Мои средства не позволяли снять комнату, и я вынужден был довольствоваться углами. У меня даже кровати своей не было. Как-то пришлось разделить кровать с одним рабочим. Правда, он был сущий ангел, этот рабочий. Он укладывался у стены, чтобы я мог лечь лицом к окну и дышать свежим воздухом.
В таких общих углах, соседствуя с рабочими или с уличными торговцами, мне оставалось лишь вытянуться на краю кровати и предаваться раздумьям. И меня одолевали сны.
Большая квадратная комната. В углу кровать, я в ней один. Темно. Внезапно разверзается потолок, треск и грохот, спускается крылатое существо, наполняя комнату движением и облаками. Шелест расправляемых крыльев. Я думаю: ангел! Я не могу открыть глаз — слишком светло, слишком лучезарно. Пошарив всюду, он поднимается и, ускользая сквозь щель в потолке, уносит с собой и блеск, и голубой воздух. Снова темно. Я просыпаюсь.
Моя картина «Видение» воскрешает в памяти этот сон.
Между тем возобновились мои мучения из-за злополучного вида на жительство. Однажды, возвращаясь в Петербург после каникул, я был задержан лично приставом.
Тот, кто выдавал паспорта, не получив на чай, как надеялся (я этого не понял), приказал:
— А ну, арестуйте его! В столицу — без разрешения?! В околоток его…
Так я попал в тюрьму с ворами.
И слава богу! Здесь по крайней мере у меня есть вид на жительство. Здесь я буду спокоен, сыт и, может быть, даже смогу рисовать.
Жаргон воров и проституток был очень забавен. Они меня не трогали, не обижали. Я даже пользовался у них уважением.
Потом меня перевели в камеру на двоих, где после девяти гасили свет, и нельзя было уже ни читать, ни рисовать. Я засыпал и предавался снам.
Вот один из них. У меня много братьев, а отец — орангутанг. У него в руках кнут. Мы на берегу моря.
Нами овладевает желание искупаться, первым входит в воду мой старший брат Врубель, русский художник, который — не знаю почему — оказался среди моих многочисленных братьев.
Раздеваясь, наш любимый брат обнажает свои позолоченные ноги, входит в разбушевавшееся море. Высокие гребни волн. Но где же мой бедный брат? Мы все взволнованы. Вдали точкой виднеется его голова, потом лишь рука, протянутая над водой…
Дети воют: •
— Он утонул, наш старший брат Врубель!
Отец вторит басом:
— Он утонул, наш сын Врубель! Остался у нас лишь ты, сын, художник, ты, мой сын!
Тут я просыпаюсь.
Освобожденный, наконец, из тюрьмы, я решил обучиться какому-нибудь ремеслу, дававшему право на жительство в столице. Я пошел туда, где учили писать вывески. Увлекся и сделал целую серию.
Было приятно видеть, как покачиваются на рынке, у порога мясной или фруктовой лавки, мои первые вывески, о которые нежно терлись свиньи…
А в школе поощрения художеств все идет своим чередом.
Два года потеряны в этой школе. В классах было холодно. Запах сырости примешивался к запаху глины, красок, кислой капусты, стоячей воды в Мойке — столько запахов реальных и воображаемых!
Я не знал ни что, ни как делать. Давить бумагу углем или зевать, как другие?
В это время в Петербурге стала приобретать известность школа Бакста. Столь же далекая от Академии, как и школа поощрения художеств, она была, однако, единственной школой, оживленной дыханием Европы. Но где каждый месяц брать 30 рублей? *
Заручившись рекомендательным письмом и собравшись с духом, я взял все свои этюды и понес их к Баксту, в его квартиру на Сергиевской улице.
Бакст. Европа, Париж.
Он поймет меня, поймет мой лепет, поймет, почему я бледен, почему так часто печален и даже почему я пишу лиловыми красками.
Он стоял передо мной и слегка улыбался, обнажая блестящие зубы.
— Покажите ваши этюды.
Я хотел только одного: чтобы он не ошибся. Признает ли он у меня талант?
Он смотрел мои этюды, которые я поднимал с паркета, и говорил, растягивая слова, со своим барским акцентом:
— Да-а, да-а, талант здесь есть, но вы тратили его понапрасну, вы на ложном пути… Тратили понапрасну…
Хватит! Боже мой, это я-то?! Стипендиат школы поощрения художеств, тот, кому дирекция расточала сияющие улыбки?.. Да, но и тот, кто, постоянно сомневаясь в себе, не испытывал никакого удовлетворения от своей мазни…
Голос Бакста, его слова — пусть не во всем справедливые — меня спасали. Произнеси их кто-нибудь другой, я пропустил бы их мимо ушей. Но авторитет Бакста был слишком велик, чтоб я мог пренебречь его мнением. Я слушал его взволнованно, свертывая свои холсты и рисунки, веря каждому его слову.
Встреча с Бакстом никогда не изгладится из моей памяти.
К чему скрывать: кое-что в его искусстве оставалось мне чуждым. Дело, может быть, даже не в нем, а в художественном обществе «Мир искусства», в котором он состоял и где расцветали стилизация, эстетизм, всякого рода маньеризм; для этого общества революционеры современного искусства — Сезанн, Мане, Моне, Матисс и другие — были лишь зачинателями проходящих мод.
Я пустился в работу. Позировала модель — толстые розовые ноги, фон голубой.
В мастерской среди учеников — графиня Толстая, танцовщик Нижинский. Его мольберт рядом с моим. Он рисует неумело, как ребенок. Подходя к нему, Бакст одаривает его снисходительной улыбкой, слегка похлопывая по плечу. Нижинский точно так же улыбается мне, будто хочет ободрить.
Бакст приходит только раз в неделю. Мольберты выстроены в ряд. Все ученики прекращают работу. Ждут его. Вот и он. Переходит от одного полотна к другому, не зная точно, кому они принадлежат. Только потом он спрашивает: «Это чье?» Говорит он мало — одно-два слова, но наш гипнотический страх и дыхание Европы делают свое дело.
Подходит ко мне. Я теряюсь. Он говорит об этюде, не зная (или делая вид, что не знает), что этюд мой. Бросает несколько малозначащих слов, как в изысканной беседе.
Все остальные взирают на меня с состраданием.
— Чей это этюд? — спрашивает он наконец.
— Мой.
— Я так и думал. Естественно,— прибавляет он.
Нет, так продолжаться не может. Я сделал другой
этюд. Пятница. Приходит Бакст. Ни слова похвалы.
Это выше моих сил! В общем, учиться я не способен. Вернее, меня невозможно учить. Не зря я был плохим учеником в общей школе. Я беру только инстинктом. Вы понимаете? Школьная теория мне не по зубам.
Не понимая причин провала моих первых этюдов в школе Бакста, я сбежал, чтобы на воле освободиться от этой тяжести.
Я вернулся в школу лишь через три месяца, твердо решив не сдаваться и во всеуслышанье получить одобрение мэтра.
Я «забыл» все прошлые наставления и сделал очередной этюд. В пятницу он был по достоинству оценен Бакстом и в знак отличия водружен на стену мастерской.
Вскоре я понял, что больше мне в этой школе делать нечего. Тем более, что сам Бакст с открытием нового Русского сезона за границей навсегда покидал школу и даже Петербург.
Я бормочу:
— А может… Вы знаете, Лев Самойлович… Я хотел бы… в Париж!
— Ну, если вы так хотите… Скажите, вы смогли бы раскрашивать декорации?
— Конечно! (Я и понятия об этом не имел.)
— Вот вам сто франков. Изучите как следует это ремесло, и я увезу вас с собой.
Однако дороги наши разойдутся, и я уеду в Париж один.
Я дома, я пишу свои картины. Мама руководит мною. Она находит, что в картине «Рождение» надо бы перевязать пуповину роженице. Я немедля следую ее совету. Она права: тело оживает.
Белла приходит с голубыми цветами. Вся в белом, в черных перчатках. Я пишу ее портрет.
Однажды, утомленный нескончаемыми заборами Витебска, я пишу «Смерть». В другой раз — «Свадьбу». Но все время было ощущение: еще немного, и я весь покроюсь волосами и пеной.
Я слонялся по улицам, я искал и просил: «Боже, ты, сокрытый в облаках или за домом сапожника, сделай так, чтобы раскрылась моя душа, печальная душа лепечущего мальчика, укажи мне. Боже, мою дорогу. Я не хочу быть, как другие, я хочу видеть новый мир».
Дома разъяты — лопнули, как скрипичные струны, и все жители парят над землей. Семьи устраиваются на крышах. Краски смешиваются, превращаются в вино — и полотна мои желтеют…
Мне очень хорошо с вами со всеми. Но… Вы слышали что-нибудь о великих традициях, об Эксе, о художнике с отрезанным ухом, о кубах и квадратах, о Париже?
Витебск, я покидаю тебя.
Я сам не очень-то понимал, чего хотел — я, глубокий провинциал, откровенно говоря. Любя переезды, я вместе с тем только и мечтал, что остаться один в своей клетке. Я часто говаривал: мне всего-то и надо что клетушку с оконцем в двери, через которое мне давали бы пищу. С таким ощущением я совершал свои путешествия в Петербург, а позже — в Париж.
В Париже мне хотелось постичь все, особенно секрет мастерства.
Я видел его повсюду — в музеях, салонах.
Но, может быть, моя восточная душа сбилась с пути, может, бешеная собака укусила меня. Ибо не только в мастерстве я искал смысл искусства. Я видел перед собой иных богов. Я не хотел больше думать о классицизме Давида, Энгра, о романтизме Делакруа, о кубизме и переднем плане на полотнах сезанновских учеников. Меня осенило: мы все еще бродим вокруг да около предмета, боясь погрузиться в хаос, разбить, разрушить привычное.
На следующий день по приезде я пошел в Салон Независимых.
Я проник в самое сердце французской живописи 1910 года. Я был захвачен. Никакая академия не могла бы дать мне все то, что я вбирал в себя на выставках Парижа, в его музеях, с его витрин.
Прожив некоторое время в тупике дю Мэн, я перебрался в другую мастерскую, которая все-таки была мне по карману,— в «Улей». Так называлась сотня мастерских, окруженных маленьким садом вблизи бойни на улице Вожирар. Здесь проживала артистическая богема со всех стран.
В то время как в мастерских у русских рыдала обиженная натурщица, у итальянцев звучала гитара и песни, у евреев — дискуссии, я в своей мастерской был один при свете керосиновой лампы.
Мастерская завалена картинами — холстами, которые, впрочем, были моими скатертями, моими простынями, моими ночными рубашками, порванными на куски.
Два, три часа ночи. Небо голубеет. Встает рассвет. Внизу, невдалеке, режут скот. Коровы мычат, а я их рисую.
Так я бодрствую ночи напролет. Вот уже неделю моя мастерская не убирается. Мольберты, яичная скорлупа, пустые коробки из-под бульона по два су валяются где попало.
На досках соседствуют копии Эль Греко, Сезанна, остатки селедки (которую я делил пополам — голову на первый день, хвост на завтра), и, слава Богу, корки хлеба.
Однажды в Париже я пошел на балеты Дягилева, чтобы повидать Бакста и Нижинского.
Подбежал Нижинский, похлопал меня по плечу.
Он торопится на сцену, где его ждет Карсавина: давали балет «Видение розы». Бакст по-отечески останавливает его. «Подожди, поди-ка сюда»,— и поправляет на нем широкий галстук.
Рядом Д’Аннунцио — маленький, с тонкими усиками — нежно флиртует с Идой Рубинштейн.
— Все-таки приехали? —бросает мне Бакст.
Я смущен. Ведь он не советовал мне ехать в Париж, предупреждал, что там я умру с голоду, и чтоб на него не рассчитывал.
Откровенно говоря, в эту минуту мне было неважно, придет Бакст посмотреть мои работы или нет.
Но он, уходя, сказал:
— Я приду к вам взглянуть, что вы делаете.
И однажды он пришел:
— Вот теперь ваши краски поют…
То были последние слова, адресованные профессором Бакстом своему бывшему ученику…
Один мой товарищ из «Улья» фабриковал картины и продавал их на рынке.
Как-то я спросил его:
— Может, и я смогу что-нибудь там продать?
Он рисовал дам в кринолинах на прогулке в парке. Это было не по мне. А вот пейзаж в стиле Коро — почему бы и нет? Я взял репродукцию Коро, но чем больше старался сделать «а ля Коро», тем больше удалялся от него и кончил «а ля Шагал»!
Товарищ лишь посмеялся надо мною. Велико же было мое удивление, когда годы спустя я увидел это полотно в салоне одного коллекционера…
На кубистов я взирал со стороны: «Пусть сколько угодно едят свои квадратные груши на своих треугольных столах!»
Несомненно, мои первые картины были несколько странны для французов. А я просто любовался ими. Может быть, думал я, мое искусство слишком безрассудно — пылающая ртуть, голубая душа, искрящаяся на холстах? И я мечтал: долой натурализм, импрессионизм, реалистический кубизм! Они сковывают меня…
Куда мы идем? Что это за эпоха, которая воспевает искусство техники и превозносит формализм? Пусть процветает наше безумие! Искупительная баня. Революция глубины, не только поверхности.
Не зовите меня фантазером! Наоборот, я реалист. Я люблю землю.
…А там — другое, легкое и звучное пламя. Блэз,, друг Сандрар. Хромовая блуза, чулки разных цветов. Морщины — следы солнца и нужды.
Искусство пылающей жидкости. Неистовство картин, едва рожденных. Головы, отдельные члены, летающие коровы.
Я вспоминаю обо всем этом, а ты, Сандрар?
Он был первым, кто пришел ко мне в «Улей».
Он читал мне свои поэмы, глядя в открытое окно, улыбался моим холстам, и мы оба смеялись.
…Вот мансарда Аполлинера, доброго Зевса. В cтихах он прокладывает для нас дорогу. Он выходит из своей угловой комнаты. Его широкое лицо озаряет улыбка. Его нос дико заостряется, глаза — добрые, загадочные — излучают волю. Он несет свой живот, как полное собрание сочинений, и ноги его жестикулируют, как руки.
У него много спорят.
В углу сидит маленький приятный человек. Аполлинер подходит к нему, тормошит:
— Знаете, что надо сделать, мсье Вальден? Надо организовать выставку вот этого молодого человека. Вы с ним не знакомы? Мсье Шагал…
Однажды мы с Аполлинером идем обедать к Бати на Монпарнас. По дороге он вдруг останавливается:
— Смотрите, вон Дега. Переходит дорогу. Он слепой.
Дега идет один, брови нахмурены, вид угрюмый. Идет большими шагами, опираясь на трость.
За столом я спросил Аполлинера, почему он не представил меня Пикассо.
— Пикассо? Вы хотите покончить жизнь самоубийством? Все его друзья кончали таким образом,— отвечает Аполлинер, как всегда, улыбаясь.
«Какой волчий аппетит», — думаю я, глядя, как он ест.
Аполлинер ел, будто пел, еда звучала у него во рту. При этом он успевал раскланиваться налево и направо. Знакомые — со всех сторон.
— О! О! A! А! А!
Малейшая пауза — он опустошает бокал, утирается салфеткой.
Обед закончен, пошатываясь и облизывая губы, мы отправляемся в «Улей».
Я не решаюсь показать свои полотна Аполлинеру:
— Я знаю, вы вдохновитель кубизма. Но я стремлюсь к другому.
— К чему другому?
Мне становится неловко.
Импрессионизм и кубизм мне чужды. Искусство должно быть состоянием души. Душа у всех священна, у всех двуногих во всех точках земли. Свободно только честное сердце, неподвластное чужой логике, чужому рассудку.
Аполлинер садится. Он пыжится, краснеет и, улыбнувшись, шепчет: «Сюрреализм!»
На следующий день я получил от него поэму, мне посвященную.
Как проливной дождь, бьет смысл ваших слов.
Сегодня вы, конечно, грезите об акварелях, о новой живописи, о поэтах, обиженных судьбой — обо всех нас, за кого вы некогда замолвили слово.
Забыта ли или все еще с нами его сияющая улыбка на мертвом лице?
…Дни мои тянутся на площади Конкорд или около Люксембургского сада.
О, если бы мне удалось, оседлав химеру Нотр-Дам’а, прочертить путь в небо!
Париж, ты — мой второй Витебск!
Я, волнуясь, вернулся в Витебск.
Я написал серию «Витебск. 1914». Я рисовал все, что попадалось на глаза. Рисовал через окно, никогда не выходил на улицу с ящиком красок.
Вот за столом перед самоваром сидит тихий согбенный старик.
Я спрашиваю его глазами: «Кто вы?»
— Как?! Вы меня не знаете? Вы никогда не слышали о проповеднике из Слуцка?..
— Тогда, прошу вас, приходите ко мне. Я сделаю из вас… Как бы это сказать?..
Как ему объяснить?
Он входит, садится на стул и вскоре засыпает.
Видели вы старика в зеленых тонах, которого я написал?
Это он.
Мимо нашего дома проходит другой старик. Седые волосы, угрюмый вид. За спиной мешок. Смеет ли он хоть молить о милостыне? Он молчит. Такой входит и тихо стоит у двери. Стоит долго. И, если ему ничего не дают, уходит, как пришел, не проронив ни слова.
Вы видели моего молящегося старика? Это он.
Я рисовал, рисовал и… в конце концов, в один дождливый вечер очутился под брачным венцом — все было, как на моих картинах.
Но этой церемонии предшествовала долгая комедия.
Родителям и многочисленным родственникам моей… да, да, моей жены не нравилось мое происхождение. Еще бы: мой отец — простой приказчик, а дед…
А это семейство — подумать только! — владело в нашем городе тремя ювелирными магазинами. В витринах сияли и переливались разноцветными огнями кольца, броши и браслеты. Отовсюду звонили часы и будильники. Мне, привыкшему к другим интерьерам, все это казалось неземной роскошью.
У них три раза в неделю пекли огромные пироги с яблоками, сыром, маком, при одном виде которых я обмирал. И по утрам, к завтраку, подавали блюда с этими пирогами… А у нас дома — простой натюрморт а ля Шарден. Их отец наедался виноградом, как мой — луком, а телятина, которую у нас приносили в жертву только раз в год, в канун Великого Прощения, не сходила у них со стола.
У меня нет больше сил говорить об этом. Кружится голова.
Мать моей невесты говорила ей:
— Послушай, мне кажется, он даже красит щеки… Что это за муж — мальчик розовый, как девушка? Он никогда не сумеет заработать на жизнь…
Но что делать, если ее дочь меня любит…
— Да еще художник!
— Что люди скажут?!..
Так честили меня в семье моей невесты, а она по утрам и вечерам приносила в мою мастерскую сладкие пироги, жареную рыбу, кипяченое молоко, яркие, разноцветные лоскуты и даже доски, которые служили мне мольбертом.
Я открывал окно — голубой воздух, любовь и аромат цветов наполняли комнату с ее приходом. Вся в белом или вся в черном — она еще долго летала на моих полотнах, паря над моим искусством. Я ни картины, ни рисунка не мог закончить, не спросив у нее: «Да или нет?»
Велика важность — ее родители, братья. Бог с ними!
Бедный мой отец!
— Пойдем, папа,— говорю,— на мою свадьбу.
Он, так же как и я, предпочел бы пойти спать.
Стоило связываться с людьми такого высокого пошиба?
Придя с большим опозданием в дом своей невесты, я нахожу в сборе весь синедрион.
Жаль, что я не Веронезе. Вокруг длинного стола — главный раввин, мудрый старик, хитроватый, сидит с величественным видом толстого буржуа, и вся компания евреев поскромнее, чьи кишки уже бурчат в ожидании моего прихода и… обеда. Какой же обед без жениха! Я прекрасно это понимал, и они меня забавляли.
Пусть этот вечер будет самым важным в моей жизни, и если сейчас — без музыки, без звезд и неба, на фоне желтой стены, под красным балдахином — меня все-таки женят, что мне за дело до этих обжор!
Их друзья и знакомые конфузятся, узнав, что я — художник.
— Впрочем, кажется, он уже знаменит. Он даже деньги получает за свои картины. Вы это знаете?
— Что вы говорите?! А слава и почет?..
— Но кто его отец?
— А я знаю?..
Как я потом жалел, что глупая робость помешала мне дотронуться до бесконечных вкусных блюд, до гор фруктов, винограда, украшавших свадебный стол.
Над нашими головами струились благословения, вино, а, может, и проклятия.
Я потерял рассудок. Все кружилось вокруг меня…
Наконец мы одни в деревне.
За лесом луна. Свинья в хлеве, лошадь за окном. Небо лиловое.
К полудню наша комната приобретала вид гениального панно из больших салонов Парижа.
Но гремела война. И Европа для меня закрылась.
Нарком Луначарский, улыбаясь, принимает меня в своем кабинете.
Я уже встречался с ним однажды — в Париже, незадолго до войны. Он приходил в мою мастерскую в «Улье» посмотреть картины, чтобы написать статью в газету.
Я тогда говорил Луначарскому:
— Главное, не спрашивайте меня, почему я писал в голубом и зеленом цвете, почему теленок видится мне в животе коровы…
И наспех показывал ему свои полотна. Он, молча улыбаясь, делал пометки в записной книжке. У меня было ощущение, что от этого визита у него останутся не лучшие воспоминания…
Но вот он торжественно утверждает меня в новой должности. ( Марк Шагал был назначен уполномоченным коллегии по делам искусств Витебской губернии.)
Я возвращаюсь в Витебск накануне первой годовщины Октябрьской революции. И мой город готовится к празднику, украшая улицы большими плакатами.
В нашем городе было много маляров. Я всех собрал — старых и молодых.
— Слушайте: я буду учить вас и ваших детей, закройте свои мастерские, кончайте свою мазню. Все заказы будут передавать в нашу школу, и вы распределите их между собой… Вот дюжина эскизов. Надо перенести их на большие полотнища и развесить там, где пройдет колонна рабочих с факелами и знаменами.
Маляры — бородатые старики и их подмастерья — принялись копировать моих коров и лошадей. И 7 ноября по всему городу раскачивались цветные полотна…
Шли рабочие и пели «Интернационал». Я видел их улыбки и убеждался, что они меня понимают…
Глаза мои горели административным пылом. Меня окружали ученики, из которых я в двадцать четыре часа собирался сделать гениев. Я из кожи вон лез, чтобы раздобыть необходимые для школы краски и материалы.
Я ходил на прием в Губисполком. чтобы добиться денег из отпущенных городу кредитов.
— Как вы думаете, товарищ Шагал, что важнее — срочно отремонтировать мост или дать деньги вашей академии изящных искусств?
Если бы не поддержка Луначарского!..
Наркомпрос приглашает меня преподавать в детской колонии «Третий Интернационал» в Малаховке.
Эти дети — несчастные сироты.
В лохмотьях, дрожащие от холода и голода, они скитались по городам, висели на буферах поездов, пока их, наконец, не собрали — тысячу из многих других — в детские приюты.
И вот они передо мной.
Дети сами вели хозяйство — по очереди готовили еду, пекли хлеб, кололи и таскали дрова для печки, стирали и латали. Они заседали на манер взрослых, обсуждали и судили’друг друга и даже своих учителей, хором пели «Интернационал».
Я обучал их искусству.
Я их любил. Они рисовали. Они набрасывались на краски, как звери на мясо.
Один из этих парнишек был постоянно одержим творчеством. Он рисовал, сочинял музыку и стихи. Другой выстраивал свое искусство как инженер. Некоторые предавались искусству абстрактному, другие приближались к Чимабуэ и искусству соборных витражей.
Долгое время я восторгался их рисунками, их вдохновенным бормотаньем…
Кем вы стали, мои дорогие ребята?
Когда я вспоминаю вас, мое сердце замирает.
Марк Шагал.
Перевод с французского Дубенской Л.
Иногда случается так, что личная судьба художника и его творческая репутация на какой-то срок словно бы расслаиваются и живут каждая отдельной жизнью, даже не пересекаясь. С Шагалом в середине десятых годов произошло именно так. В начале июня 1914 года он присутствовал на вернисаже своей первой персональной выставки в берлинской галерее «Штурм», устроенной крупным немецким маршаном Хервартом Вальде-ном. Вообще-то это была рубежная веха в биографии мастера — до экспозиции в «Штурме» его редко выставляли, очень мало покупали, наконец, почти не упоминали в критических статьях и обзорах. А после берлинской выставки Шагал сравнительно быстро становится признанным авторитетом — его произведения начинают коллекционировать, его имя год за годом все чаще называют в ряду тех художников, которые определяют стиль и характер современного изобразительного искусства. У него даже появятся подражатели, а вскоре кто-то сочтет витебского мастера одним из основателей и лидеров нового направления — экспрессионизма.
Уехав на родину. Шагал довольно долго ничего об этом не знал. Он совершенно не представлял себе, что его парижский подвиг дал свои плоды. Из Берлина художник едет в свой Витебск, вовсе не ощущая себя «всемирным маэстро», каким он по сути уже стал. Напротив! Ему казалось, что ничем особенным он похвастать не может. И родители его невесты Беллы Розенфельды, владельцы ювелирного магазина, глядят на жениха Марка по-прежнему свысока — сын селедочника, не имеющий респектабельной профессии, обеспеченного будущего… По обычному витебскому счету, подобное мнение выглядит вполне естественным и оправданным, и сам Шагал смиряется с -такой провинциальной шкалой ценностей. Пока его картины в Европе «трудятся», завоевывая славу своему создателю, сам он — по крайней мере внешне— ведет обычную жизнь ничем особым не примечательного витебчанина.
Впрочем, художник ничуть не предполагал надолго задерживаться у себя на родине. Однако жизнь рассудила иначе — в Европу Шагал вернулся только через восемь лет, когда пришла совсем другая эпоха, а сам он и пережил, и создал бесконечно много.
Конечно, когда по обстоятельствам начавшегося военного времени Шагалу отказали в выездной визе, он испытал острый шок. Но его мощный художественный темперамент не угас, плодовитость работы ни на миг не поддалась вялому ритму тусклых провинциальных будней. Изменилась лишь палитра настроений, а также весь сюжетный строй картин и рисунков.
Однако эти произведения составляют совершенно особую главу его художественной биографии, ничуть не повторяя ни робкие юношеские опыты, ни парижские видения Витебска. Находясь во Франции, Шагал изображал его как романтическое воспоминание. сохранявшее, конечно, многие конкретные реалии своего быта, но решительно отличавшееся от «оригинала». В сущности, парижские «Витебски» — это метафоры, где родной город узнаваем, но живет такой особой, абсолютно далекой от истинной повседневности жизнью, словно бы он привиделся во сне и все знакомое, привычное растворилось в сложных узорах полночной фантазии.
А теперь, ‘возвратясь домой„ художник изображает прежде всего реальные ситуации, натуральную обстановку, всамделишных витебчан. На первый взгляд может даже показаться, что он вообще открестился от всех своих чудачеств, фантастики, сложной и странной образности.
Но это, разумеется, обманчивое впечатление. Все вернется, и довольно скоро. Лишь какой-то срок Шагал после парижского потрясенного восприятия мира с несомненным удивлением и спокойно-созерцательным вниманием всматривается в мирно текущую, полудремотную витебскую жизнь. Насколько она не похожа на то, что он с таким неистовством и лихорадочностью изображал в парижские годы! Среди «документов» 1 есть семейные сцены, портреты близких, автопортреты. А также провинциальные ландшафты и жанры, выполненные в манере М. Добужинского и других графиков «Мира искусства» (таковы, например, «Витебск» 1914 года, «Московский банк в Витебске», «Церковь в Витебске», «Улица в Витебске» и несколько других однотипных произведений). Что, собственно, напоминает в них стиль «Мира искусства»? Отсутствие академической строгости рисунка, его набросочная, изящная легкость, пожалуй, еще и некоторый игровой оттенок, особенно в таких пейзажах, которые включают в себя жанровые мотивы. Впрочем, самый вид Витебска и его пригородов с их неказистыми постройками и неискоренимым налетом сельских обычаев (козы, свиньи, куры близ кривых заборов, простодушная горбатость улиц и прочее) не может не вызвать горестно-грустной насмешки у недавнего парижанина.
Но Шагал воспринимает провинцию, тем более витебскую, как нечто свое, близкое — для него это родина, пенаты, что-то бесконечно дорогое и близкое сердцу. Это прямо отражается и в характере восприятия провинциально-витебских видов, и даже в их изобразительной трактовке.
В картине «Дом в Витебске. Лиозно» Шагал ничуть не приукрашивает убогую местечковую панораму — покривился двухэтажный кирпично-деревянный домишко, унизанный вывесками торговцев и ремесленников, скучают у открытых входов обитате-
ли, серое небо нависло над этой недвижной, словно навсегда замершей жизнью. Но автор ничуть не отдаляет себя от нее, чужд насмешки, словно растворяется в этом привычном, взрастившем его быту. Он видит в нем нечто родственное и привлекательное, передавая это не только сюжетными оттенками, тихой мелодией устоявшейся и по-своему доброй повседневности, но и характером живописи, ее умиротворенно-прозрачными тонами.
Парикмахерская. 1914 год.
Еще острее и проникновеннее подобные интонации звучат в «Парикмахерской», которая кажется прямым продолжением «Дома в Лиозно». Словно бы художник пригласил зрителей последовать за ним в одну из дверей, над которыми красуются вывески. «Парикмахерская Шагала», естественно, такая же жалкая, как весь облик местечка. Обстановка тут грошовая, объявление на стене («абонеты платят вперед») нелепо и безграмотно, да и сам владелец этого неказистого заведения, дядя Зуся, худой и изможденный, угрюмо поджидающий клиентов,— «маленький человек» с убогой и бесталанной судьбой. Но еще Тугендхольд очень тонко заметил в картине «покорную, смиренную любовь». Он писал, что этот интерьер — «один из лучших <…> виденных мной на выставках последних лет <…> провинциальная парикмахерская, проникнутая кротким солнцем, пыльным воздухом и жалкой улыбкой дешевых обоев»».
Именно так. «Смиренная любовь» даже утишила на какой-то (недолгий, впрочем) срок мятежно-лихорадочное клокотание страстей и дерзкий замах на мировую проблематику у недавнего обитателя «Ля рюш». «Россия, нищая Россия»… «Мой Витебск, мои заборы»… Эти мысли и чувства нахлынули. заставив забыть все остальное. В том числе и формальные новации типа кубистических. Картина написана в очевидных традициях русского повествовательного жанра рубежа XIX—XX веков. Но, конечно, есть тут и отличительно-шагаловские качества — слегка бормочущая сбивчивость, неровность изображения (которую при желании можно считать отголоском «примитивизма» или доверчивой «детскости», но уж слишком возвышается над ними живой, искрящийся артистизм) и дивная его просветленность. Как добивается мастер этой напоенности светом каждой частицы композиции — трудно сказать; уроки пленэризма Серова, Коровина, импрессионизма использованы в картине свободно и всесторонне. Но именно в этом тихом, льющемся и колеблющемся свете запечатлелись и любовь, и печаль, и нескрываемая растроганность автора, ощущающего себя сейчас блудным сыном, который вернулся после долгих странствий и припадает к коленам своих «стариков»…
Настроения такого рода развиты и продолжены в цикле пейзажей, причем живописная манера начала нового витебского периода наиболее законченна и четко выражена именно в них.
Несколько месяцев художник оставался упорным домоседом, даже тогда, когда принимался за создание витебских видов. «Я писал все, что мне попадалось на глаза,— рассказывает он в «Моей жизни».— Я писал из моего окна, никогда не прогуливаясь по улицам с ящиком для красок».
Париж из окна. 1913 год.
Если вспомнить совсем недавние лихорадочно-взбудораженные, полные удивительных перевертышей, чудачеств и парадоксов, парижские — в том числе видовые — композиции (ну, хотя бы в своем роде параллельный «Париж из моего окна»), то различие покажется просто неправдоподобным. Как успокоился взгляд, какой тихий елей пролился на беспокойную, мятежную душу! Деревянная оконная рама в картине «Вид из окна. Витебск» оказывается и четкой границей видения — никаких прыжков в бесконечность, сближений с мировым пространством и прочих высоких безумств. Обрамленное кружевными оборочками окно открывает сравнительно далекую, но совершенно безмятежную перспективу— заборы, палисадник с курами и теленком, дома, церкви… Застыли небеса, ничто не шелохнется, ландшафт кажется замершим на века, словно бы он и не виднеется через оконные стекла, а прямо нарисован на них. Этот запросто «вырезающий» кусок пространства композиционный принцип прямо-таки обескураживает у после-парижского Шагала — ведь что-либо похожее не встречалось у него уже и в петербургский период. Так, как он сейчас в Витебске, писали в девятисотые — начале десятых годов мастера «Мира искусства» или даже еще более пресные авторы из Союза русских художников…
Так, да не так. Даже произведения сравнительно кратковременного периода «документов» в большинстве случаев содержат особые шагаловские оттенки, решительно отличающие эти картины от полотен старого стилистического свойства. Подобные оттенки есть, конечно, и в «Виде из окна». Но еще лучше проследить их на примере холста «Улица в Витебске», неизвестного в мировой «шагаловедческой» литературе и обнаруженного мной в одном московском частном собрании.
По своему строю он полностью родствен «Виду из окна» — спокойный, умиротворенный взгляд неспешно разглядывает эту тихую, зеленую улицу, петляющую между деревянными домами, заборами и деревьями. Хотя дорога теряется ь глубине пейзажа, не возникает чувства влекущей дали: все начинается и кончается здесь, в этом малом, замкнутом, самому себе довлеющем провинциальном мире. Правда, по своей — почти автоматической в данном случае — привычке, Шагал сделал композицию неровной, даже слегка покачивающейся и вдобавок изгибающейся вслед за кривизной улицы. Но это вовсе не признак душевного волнения (кот. рое так характерно для всех недавних работ мастера), а скорее дань простодушию провинциального градостроительства, весьма далекого от строгой геометрии столичных планировок.
В чем же тогда — кроме настроения — состоит особый шагаловскнй оттенок, который так отличает этот холст от бесчисленных изображений дремотной и нелепой русской провинции? Секрет таится исключительно в живописи. Мастер так насытил светоносностью всю тональность картины. все переходы ее зеленых, синих коричневых цветов, что унылая заурядность недвижно-сонного витебского вида совершенно меняется. Любопытно. что хотя живопись этого полотна со всех точек зрения можно назвать пленэристской, импрессионистическая техника раздельного мазка тут не употребляется. Краски смешиваются в сложны к и динамических пропорциях, так что основной тон, сохраняя свое общее цветовое качество, беспрерывно меняет его интенсивность, напряжение, характер звучания. Пианисты такие изменения палитры назвали бы «мелкой техникой», имея в виду отделку малейших переходов в пассажах. В этой технике Шагал просто бесподобен, причем он никогда не сбивается ни на иллюстративную натурность, ни на орнаментально-декоративные приемы. Движение мазка следует за движением чувства, они всегда слитны, и это служит живой и прочной основой поэтической выразительности картины. Воплощенные ею настроения душевной умиротворенности, покоя, просветления (в прямом и переносном смысле) обладают, благодаря такой сложной*музыкальной магии живописи, замечательным богатством выражения.
Пожалуй, можно сказать, что вот именно в этих полотнах начала витебского периода, сделанных со спокойно-созерцательным размышлением. наконец-то явственно проступает основа личного живописного стиля Шагала. Из-за огромного множества наслоений в парижских экспериментах эта основа заслонялась, стушевывалась, выступала, так сказать. в чужом обличии—фовизма, кубизма, орфизма, иных постимпрессионистических манер. Все они воздействовали на художника иногда кратко, в других случаях более основательно и длительно, каким-то элементом входя в его стиль надолго или даже навсегда. Но. сидя перед окном в Витебске наедине с самим собой, никому не подражая и отбросив любые претензии, он словно исповедался самому себе в своих живописных предпочтениях. И что же? «Сотри случайные черты», как говорил Блок… Шагал прибегал и будет прибегать в дальнейшие десятилетия своего творчества ко множеству условных приемов, порой чрезвычайно эксцентричных и неожиданных. Однако основой его живописной речи, как она сложилась к середине десятых, годов, является впечатление от живой натуры. Художник мгновенно находит для него декоративно-цветовой эквивалент, достаточно точный, чтобы реальная модель изображения незатрудненно узнавалась, и •месте с тем абсолютно свободный, более всего тяготеющий к музыкально-ассоциативным началам. Для дальнейшего развития и артистической обработки этого эквивалента у Шагала всегда открытый путь—он может прибегать к любой фантастике, соединять что.угодно с чем угодно, показывать седьмое небо, рай, седую древность, странный сон и немыслимое мечтание… Но художник изъясняется только на языке конкретной предметности, применяя излюбленную и тончайше обработанную систему колористического и фактурного живописного построения.
Эта система в своей внешнестилевой форме вобрала в себя очень много составных элементов —от иконописи, народных картинок, городского фольклора вывесок до множества приемов и находок новейшего французского искусства. Но в ее глубинной основе, которая определяет общий характер восприятия и видения жизни, лежит эстетика русской живописи начала XX века в диапазоне от Левитана и Врубеля до Валентина Серова и Добужинского. Именно эта живопись составляет родовой исток искусства Шагала, который навсегда сохранит свое исходное, первородное значение.
Но, конечно, с годами, обретая зрелость, мастер, сохраняя неизменную связь с этим истоком, уходит от него чрезвычайно далеко. Его живопись абсолютно индивидуальна и не имеет никаких прямых аналогов ни в русском, ни в западном искусстве.
Примечательно, что в начале витебского периода, во второй половине 1914 года, Шагал выполняет огромную группу автопортретов. Это не просто самоизображения. К слову сказать, мастер вообще сравнительно редко обращался к портретному жанру — в молодости он иногда писал и рисовал своих родных и близких, а позже конкретные современники почти полностью исчезают из его произведений.
Но самого себя Шагал будет изображать в тысячах вариантов, по любому поводу, придавая свои черты и лирическим героям, и персонажам бесчисленного множества самых разнообразных сюжетов, включая фантастические, и кентаврам, и даже просто животным. Это не какая-нибудь маниакальность, а использование своих собственных черт как символико-схематической формулы, которая, однако, всякий раз изменяется в зависимости от показанных обстоятельств, настроений. образных оттенков. Так проявляется (наряду с прочим) в творчестве Шагала возрожденная им фольклорная традиция бесконечно варьируемых соединений типологических и индивидуальных начал, постоянной маски и живого лика.
Дворник. 1914 год.
В 1914 году Шагал еще не прибегает к такому соединению. Но он уже стремится через себя, через мимику и пластику своего лица, своей фигуры, их соотношения с окружающей обстановкой, наконец, через ритмические и красочные особенности композиций осознать и утвердить и самое общее мироощущение, и понимание роли художника в жизни, его призвания и назначения. Это похоже на театр одного актера, где один и тот же исполнитель попеременно предстает в различных обликах и ролях, доказывая свою душевную и актерскую многогранность. Ведь действительно: эмоциональный и даже сценический диапазон автопортретов мастера, написанных на протяжении очень краткого периода (всего лишь несколько месяцев!), весьма широк. Автопортрет с белым воротником из филадельфийского музея открыто классичен.
И как бы прямой контраст к такому невозмутимому и величавому «соседству .с классиками» — лукаво-шутовская мимика автопортрета из женевского собрания Ш. им Оберстега. Он весь построен на быстрых, ломких линиях и грациозных изгибах, его психологическая основа—дразнящая и насмехающаяся улыбка глаз и губ. Словно бы художник представляет себя каким-то фигляром, участником народно-балаганного зрелища. Недаром же этот автопортрет вызывает самые прямые ассоциации с «Акробатом» 1914 года, созданным еще под конец парижского периода, и с очень близким ему по характеру «Акробатом на трапеции», который написан чуть позже, уже в Витебске.
Из цикла «Цирк».
Стихия цирка, первые воспоминания о котором связаны у Шагала именно с его витебским детством, а может быть,- и с какими-то ранними впечатлениями изобразительного плана , впоследствии займет одно из центральных положений во всем творчестве мастера.
Но есть и другие, находящиеся в обширной зоне между этими полярными точками жанра. Художник видит себя то нарядно одетым провинциальным юношей, чей слегка прилизанный облик под стать изображенному на фоне витебской идиллии празднично убранному, очевидно, ожидающему гостей, родному дому (с дощечкой «Шагалъ» над калиткой); то несколько похожим на чудака в стиле персонажей «примитивов», бродящего по Витебску с палитрой в руке; то темпераментным романтиком, который, воздев палитру к небесам, едва ли не в лунатическом самозабвении пересекает площадь ночного города.
Пожалуй, самый значительный и глубокий в этом ряду автопортретов 1914 года — тот, который был подарен когда-то художником его близкому другу, писателю Илье Эренбургу (а теперь перешел по наследству к одной из его родственниц). Бесспорно, это один из шедевров молодых лет мастера, сложно уравновесивший в себе память о старых традициях и смелость новых приемов, натурность и метафору. Его основная экспрессивная сила—в колорите, который равно обладает и повествовательными аспектами, и музыкальным ладом.
Автопортрет. 1914 год
В чисто композиционном плане Шагал прибегает к неожиданному и остроумному приёму. Он изобразил себя стоящим у белой плоскости холста, который, наверное, установлен на мольберте (его не видно) и имеет форму усеченного прямоугольника — куска коричневой стены. Такое сопоставление делает пространство одновременно и конкретным и условным, ведь стена— чистая кулиса, ни с каким интерьером не соединена и воспринимается как знак, как часть чего-то бесконечного и всеобщего. В сопоставлении с ней фрагмент холста также выглядит скорее символично, чем описательно,—со своими легкими бело-голубыми разводами он похож и на окно, и даже на небо, в которое художник окунает свою кисть. Есть и еще один, более глубинный оттенок живописной формы: мастер нарочито не загрунтовал большую часть полотна, так что вязь его нитей проступает и в фигуре живописца, и в той бело-голубой плоскости, рядом с которой он находится. Что же тогда реально и что изображено? Все смешалось и слилось, происходит как бы игра зеркал…
У мастера сосредоточенный взгляд и решительный жест, но на его губах играет слегка ироническая улыбка. И одет он не в костюм или традиционную художническую блузу, а в странный голубой наряд с кружевными оборками. Что вспоминается? Да конечно же, те изображения шутов-акробатов, о которых уже шла речь и которые наряжены именно в такие же узорчатые одежды, только более пестрые и клетчатые!
Вот такое сочетание мудреца и шута, печального романтика и саркастического насмешника, внимательного наблюдателя натуры и дерзкого выдумщика, способного на любую эксцентричность, составляет основное содержание автопортрета, который вдобавок -существует одновременно и в скромном витебском интерьере, и в отвлеченном, не имеющем границ, пространстве.
Все это сложное и не лишенное странностей прихотливое сплетение разнохарактерных качеств объединено и гармонизовано дивным по своей красоте и тонкости колоритом. Мне вспоминается первое впечатление от этой картины, которая долгие годы стояла на мольберте посреди большой гостиной в московской квартире И. Г. Эренбурга. Словно какое-то тонкое голубое облако плыло над портретом! Вообще — у многих полотен Шагала есть одна трудно объяснимая, просто загадочная особенность: их колорит, проникая во все поры изображения, вместе с тем как бы выходит за его пределы, обретая своего рода стереоскопичность. Во всяком случае такое качество есть у этого автопортрета 1914 года — он просто окрашивает близлежащее пространство, которое неожиданно обретает колеблющуюся голубизну. В самом «теле» портрета эти голубые тона соседствуют с тепло-желтым цветом лица, который вольно и весело рассекается зелеными тенями на подбородке и пронзительной синевой зрачков. Красные пятнышки на палитре, которую мастер держит в руках, также вносят в эту спокойно-светлую гамму острый, интенсивный диссонанс. Так мягкая, прозрачная музыка колористической композиции портрета перебивается шутовскими бубенцами цветовых контрастов. Впрочем, они органично включаются в живописный симфонизм картины с ее глубокой и многосложной характеристикой человека и его творческого мировосприятия, которое балансирует между безусловностью натурных наблюдений и условной метафоричностью.
Автопортреты составляют центральную часть тех «документов» 1914 года, которые относятся к портретному жанру. Но есть еще довольно много других живописных и графических работ той же поры, связанных с семейным кругом: изображения родителей, бабушки, братьев, сестер, дядюшек.
Материнство. 1914 год.
Один из «документов» такого свойства — «Материнство». Я бы назвал его «Витебская мадонна». Она чуть опережает тот строй чувств, которым отмечен цикл произведений Шагала 1915—1917 годов и связан с его собственной влюбленностью, женитьбой, ощущением захватывающего счастья. Правда, «Материнство» — это пока еще не притча, не волшебная фантазия, а полная света и теплой интимности сцена повседневного. Милая, совсем юная мать, слегка изогнув еще не истрепанное жизнью тело, с невольной грациозностью отнимает от груди и собирается опустить в корытце своего тонконогого первенца. В картине есть оттенок некоторой иронии, с улыбкой показывающей черты неистребимой провинциальности,— этот кокетливый бантик в пышных волосах, этот край откинутого полога с его лубочными крестьянскими цветочками… Но насмешливость тут добра и сердечна, она почти полностью спрятана и растворена в чистейшей и радостно-светлой человечности сцены. И ничто так не поддерживает ее в изобразительном плане, как прозрачная тональность, сотканная из слегка окрашенного света. Яростная интенсивность парижского колорита сменилась в «документах» известной сдержанностью и просветленностью, которые, однако, не лишают цвет глубины и бесконечности. Впрочем, как мы увидим, почти одновременно мастер создает картины, где колористическая система выглядит совсем иной.
«Прямая речь», внеметафорическое построение образов употребляются Шагалом и во всех иных «документах», изображающих родных и близких.
Но странное дело! Буквально в те же месяцы и дни, когда писались и рисовались автопортреты, домашние сцены, изображения близких, наконец, виды из окон квартир, где жил и работал художник, создаются и «документы», обладающие совершенно иным характером восприятия жизни и изобразительными качествами. Стоило Шагалу лишь немного отдалиться от родных стен, как его взгляд становился жестким и острым, ласковый свет угасал и все окружающее представало отчужденным, странным, нередко тревожным и даже угрожающим. Ситуация подобного душевного «переключения» лежит на всем огромном материале произведений 1914 года.
Беженцы. (На прогулке) 1914 год.
Примечателен в этом плане созданный тогда цикл жанровых сценок уличной жизни Витебска, выполненных тушью. Каким мрачным и неприкаянным выглядит здесь любимый город художника; Людские фигуры кажутся какими-то бесплотными привидениями. А рисунок «На прогулке» (иногда его называют «Беженцы») содержит даже оттенок жестокой фантазии — впереди идет какой-то карлик на крохотных кривых ножках, мужчина в центре держат в руках «кентаврического» кота (похожего на такой же персонаж в картине «Париж из моего окна», 1918); прижимающая к груди ребенка женщина, замыкающая шествие, закутана в какой-то странный, словно монашеский платок. Вся сценка представляется чем-то вроде ночного кошмара. Сходное впечатление оставляет и рисунок «Витебск. Группа людей», где само движение маленькой Процессии пронизано смутной тревогой.
Витебск. Группа людей. 1914-1915 годы.
Многие другие изображения витебской повседневности внешне спокойнее и не так мрачны, но оттенок странности, быть может, и душевной отягощенности в них почти всегда очевиден. Так, в рисунке «Улица в Витебске» нет деформаций и угрожающей темноты ночного фона, но отчего так сутулятся и горбятся прохожие? Куда исчезло то ощущение просветленности, которым пронизаны все «родственные» сюжеты?
Подлинным взрывам драматизма представляется весь обширный «военный» цикл рисунков и картин Шагала, также относящийся ко второй половине 1914 года: Германия объявила войну России 19 июля по старому стилю (I августа по новому).
Первая мировая война буквально ворвалась в жизнь и творчество Марка Шагала. Он ее не ожидал (как конкретную ситуацию политического свойства, ибо вообще-то тревожные предчувствия пронизывали многие его произведения), ни в малой мере не соразмерял свои план),) с возможностью ее возникновения. Вдобавок, находясь в провинции, художник оказался вдалеке от центров всех событий и конфликтов, погруженный в частные и профессиональные дела.
Это, однако, ни в малой мере не означает, что Шага д был вообще равнодушен к общественной динамике времени. Вовсе нет! Он всегда переживал ее чутко и остро. И уже через несколько лет. в революционные годы, его гражданский темперамент развернется в полную силу. Правда, до этих лет исторические реалии скупо отражаются в его произведениях, чьи сюжеты обычно ограничены кругом личных наблюдений и переживаний, а также поэтическими метафорами общего мироощущения. Но по-своему, на языке искусства художник всегда отзывался на жизнь и настроения времени. А с самых первых месяцев после роковых выстрелов в Сараево Шагал уже не ограничивался эмоциональной ассоциативностью, а соединил ее с прямым изображением персонажей и ситуаций военного времени. Ведь Витебск находился недалеко от фронтовой зоны, через него шли дороги к театру военных действий, так что художник мог видеть своими глазами их участников (русских солдат и австро-немецких пленных). Он вспоминает, что видел «поезда, переполненные солдатами», вдыхал «запах фронта, резкое дыхание селедок, табака, вшей. Я слышал, я чувствовал бои, канонаду<…> война грохотала во мне»».
Остродраматичное, в известных аспектах трагичное восприятие событий первой мировой войны, отразившееся и в воспоминаниях, и — особенно — в произведениях Шагала, явственно перекликается с настроениями виднейших представителей интеллигенции России в ту же пору.
Поначалу это было чувство огромной душевной потрясенности. «Я навсегда запомнил тот летний день,— вспоминает о 1914 годе долголетний друг Шагала Илья Эренбург.— Часто говорят, что значит в жизни человека первая любовь. А то была первая настоящая война — и для меня и для людей, меня окружавших <…> Никто из нас не знал, что такое война <…> первая мировая война разразилась внезапно—затряслась земля под ногами» .
Когда же война развернулась и затянулась, восприятие происходящего, жизненной ситуации и в России, и в других странах воюющего мира стало приобретать у русских интеллигентов все более мрачные, трагические краски. «Вся современная жизнь людей есть холодный ужас, несмотря на отдельные светлые точки, ужас надолго непоправимый,— пишет Александр Блок в одном из писем 1916 года.— Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно».
Совершенно очевидно, что обстановка военных лет внушила Блоку (как и многим другим русским интеллигентам) мысль о всеобщем кризисе цивилизации, который принял тотальный характер. Ужасы жестокой и кровавой битвы, когда «встают из могильных курганов, мясом обрастают хороненые кости» (Маяковский), при этом оказываются не локальным эпизодом, а наглядным выражением этого кризиса. Отсюда— безотрадность, угнетенность настроений, мрачность видения. •
Смоленская газета. 1914 год.
Печать «холодного ужаса», о котором писал Блок, лежит на всех шагаловских произведениях 1914 года, связанных с военной темой. Как бы переходом к ней от сюжетов семейного круга служит картина «Смоленская газета». В ней показан такой же тихий витебский интерьер, как и во многих других домашних «документах». Но двое дядей художника, сидящих за столом, потрясены, и это выражение во всем их облике. Идущий от Михаила Ларионова прием введения в живописную композицию слов и надписей использован тут сугубо сюжетно: по-детски кривыми буквами на изгибающемся газетном листе начертано: «Смоленский вестник. Война». И ничего больше. Персонажи картины остро переживают это известие. Старик справа угрюм и озабочен, его патриархальный вид наталкивает на далекие исторические параллели, словно сопоставляя новое жизненное испытание с трагедиями и катастрофами национального прошлого. Господин в котелке слева, куда более современный и светский, явно не интересуется ни сопоставлениями с прошлым, ни философическими размышлениями: он, однако, лихорадочно ощущает, что произошел некий надлом жизни и (почти буквально!) ломает голову над тем. что же будет наилучшим выходом в сложившейся ситуации. Картина выдержана в относительно светлых желто-зеленых тонах, но в ней уже заметались тревожные тени.
Они резко сгущаются во всех остальных произведениях на военные сюжеты. «Газетная» фабула варьирована еще в двух произведениях. Рисунок, изображающий витебского продавца газет (он прижимает к груди листок, на котором огромные буквы просто кричат: Война), построен на острейшей деформации. Черты худого лица старика газетчика смещены: запечатленные рвущимися, сталкивающимися линиями, они полны тревоги и тяжких предчувствий. Этот рисунок, очевидно, был портретным эскизом к картине с таким же названием («Продавец газет»). Портретная характеристика здесь практически такая же, но фигура газетчика, разносящего вести о войне, всажена в вечерний витебский пейзаж, драматически-экспрессивный. Темная мостовая, по обочинам которой сутуло громоздятся дома и собор, буквально врезается в багровое зарево горизонта. Этот открытый цветовой контраст усугубляет тревожное настроение центрального персонажа, придает всей композиции трагическую масштабность.
Продавец газет. 1914 год.
Особой резкости и жесткости это ощущение «холодного ужаса» войны достигает в серии рисунков 1914 года тушью и пером. «Раненый солдат», пожалуй, самый экспрессивный в их ряду. Любопытна техника исполнения: художник закрашивает поверхность листа черной тушью, оставляя пробелы. Они не пройдены дополнительно белилами. но так резко вырываются из темного фона, что кажутся слепяще-светлыми. Так и в этом листе: оставленные белыми бинт на перевязанной голове солдата, его глазницы (причем одна из них мертвенно-пуста), складывающиеся в кривую, злобную улыбку губы выступают из черной массы основной части рисунка чрезвычайно остро, как молнии из тучи.
Раненый солдат. 1914 год.
Так выражено все отношение к идущей войне, ее мраку, ужасам, позорной бессмыслице. Как не вспомнить в этой связи почти одновременно написанные строки Владимира Маяковского:
«Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на черта она?!»
Все же эта «черная» серия военных рисунков с их колючей жесткостью заметно выпадает из общего эмоционального строя произведений Шагала второй половины 1914 года. В нескольких живописных произведениях той же поры он даже пытается как-то мягче взглянуть на ту же тематику. Критика это заметила и оценила. «„Военные» произведения Шагала,— писал Я.Тугендхольд,— могут не нравиться, но ценно то, что там, где другие художники славословят железные и деревянные красоты, он чувствует лик человеческий. В наши дни <…> особенно важно искусство, в котором есть любовь к миру и человеку, есть лирика». Все это очень глубоко и прозорливо замечено. Великое и драгоценнейшее качество — «чувствовать лик человеческий» и испытывать «любовь к миру и человеку»,— по сути дела, коренные и неизменные качества произведений Шагала. Они сохранятся во всем его искусстве даже при труднейших поворотах истории и личной судьбы мастера.
Но проявление этих качеств в творчестве мастера многоразлично и своеобразно. И суть дела не только и не столько в особенностях стилевых оттенков его работы, а в грандиозно-философском охвате всеобщей концепции Шагала, как она представляется в своем завершенном и целостном виде. «Вселенское» чувство мира, впервые пробившееся в шагаловских произведениях петербургского периода и получившее высочайший взлет в его парижскую пору 1910—1914 годов, не оставило художника и по приезде в Витебск (а также, разумеется, и позже). Родные провинциальные впечатления оказались для него чем-то начальным и исходным в общем мировосприятии, каким-то первичным модулем человечности. Шагал естественно приобщился к витебскому окружению, полюбовался им, но и в нем увидел отзвуки и отблески мировых парадоксов, могучей власти преобразующих сил, которые — по его внутреннему чувству — должны сформировать новую мировую гармонию. Целая группа витебских картин 1914 года образует ее высший ряд, полностью отходящий от спокойной повествовательности и «прямой речи» обычных наблюдений.
Часы. 1914 год.
К самым широким обобщениям и абстракциям, полным парадоксальности. Шагал всегда идет, отталкиваясь от самых простых и обычных деталей и персонажей повседневного. Для витебского цикла это особенно характерно. Казалось бы, что может быть более обыденным по сюжету, чем «Часы» 1914 года, запечатлевшие обиходнейшую деталь витебского быта? Между тем это одна из таких картин, которые определили целую систему художественного миросозерцания не только в творчестве Шагала, но и в искусстве XX века.
Прежде всего решительно смещены и поставлены в обратно пропорциональные соотношения привычные реалии жизни. Сидящая у темного ночного окна фигурка (несомненно автопортретная) кажется крохотной по сравнению с расположенными в центре композиции часами, занимающими всю пространственную вертикаль.
Это взаимоотношение вызвало несколько однолинейное истолкование у критиков нескольких поколений. В уже цитированной статье Я. Тугендхольд писал: «<…> при виде этого гигантского и неумолимого маятника времени и этой бездонной ночи за окном и такого маленького перед лицом вечности человека вспоминаешь и Бодлера, и Эдгара По, и тютчевский «часов однообразный бой, томительную ночи повесть». Такое остро и образно выраженное первым рецензентом картины ее восприятие сохраняется многие десятилетия.
Но художник видит и утверждает в окружающей жизни века не столько алогизмы, сколько новую логику, ждущую понимания и истолкования. В «Часах», так же как и во многих произведениях парижского периода. Шагал передает свое глубочайшее убеждение, что мир сдвинулся со своих привычных осей и при этом вечные категории жизни, незаметные за монотонно установившимся ходом повседневного, вдруг как бы вырвались наружу и громогласно заявили о своей значительности и власти. Потом, возможно, сложатся новые закономерности и все станет на свои места, только в каком-то измененном виде. Но пока что обнажились и пришли в необычное движение внутренние механизмы бытия. Отсюда и появление странных парадоксов—таких как в «Часах» Третьяковской галереи. Обычная натурная деталь — фигурка у окна — сопоставляется с материализованным символом времени. Эти часы вовсе не угрожают размышляющему у окна витебчанину, они просто существуют в ином духовном пространстве, чем он. Часы как предмет оказываются тут вместилищем метафоры Времени, управляющего динамикой всего мира.
Любопытно, что Шагал никогда не изображает и тем более не культивирует чувство потерянности человека в этом мире обнаженных и пришедших в необычное движение стихийных первоначал. Скорее художнику свойственны созерцательные размышления и рефлексии по этому поводу, которые посвящены даже не столько отысканию нового места людей в преображающейся на глазах ситуации, сколько весьма своеобразному ощущению очеловеченности всех сил жизни, включая самые общие и отвлеченные. В «Часах» так воспринимается Время, а если чуть забежать вперед, то в рамках того же витебского периода, только в 1915 году, мастер на подобный же лад трактует Пространство. Я имею в виду картину «Зеркало».
Зеркало. 1915 год.
К слову сказать, мотивы зеркальных отражений и игры зеркал были довольно широко распространены в русском искусстве начала XX века. Чаще всего, однако, они использовались всего лишь как прием дополнительного расширения пространства, позволяющего показать, что происходит в какой-то не видимой зрителю части интерьера. Именно такую роль играет зеркало, например, в знаменитом портрете Генриетты Гиршман. написанном в 1907 году В.А.Серовым, где в трюмо отражается изысканный будуар светской красавицы и угрюмый лик пишущего ее художника. Дальше подобных вариаций не шли и мастера «Бубнового валета» — напомню, к примеру. «Женский портрет с зеркалом» И.Машкова (1918, Свердловская картинная галерея).
Но русскому художественному сознанию в ту же пору раскрылись своего рода перепады пространств, в ходе которых происходят их сломы и сдвиги, образование новых взаимоотношений реальности и воображения. выход в область особого, духовного измерения повседневности. Подобные мотивы. кстати сказать, встречаются и в поэзии эпохи. Так. в «Зеркале» Бориса Пастернака (1917) пространство остранено. ибо «несметный мир <…> ломится в жизнь и ломается в призме», опрокидывается в трюмо «и не бьет стекла», всячески видоизменяясь «в гипнотической этой отчизне» Сходная трактовка «зеркального» мотива встречается и в русской живописи десятых годов. Классический пример этого — «Зеркало» Натальи Гончаровой (1912, галерея Бейелер, Базель). Зеркальная поверхность в этой картине отражает не только совсем неожиданные, по-особому характеризованные в цветовом плане предметы, но и какое-то пошатнувшееся, неустойчиво себя чувствующее, как бы заново складывающееся пространство. Несколько позже такие пространственные сдвиги, своего рода «игра пространств», появляются и у К.Петрова-Водкина (например, в «Натюрморте с зеркалом», 1918, Государственная картинная галерея Армении, Ереван: в «Скрипке». 1918, Государственный Русский музей).
Шагал ближе всего именно к такой, построенной иа «сдвигах», линии пространственных решений с использованием «драматургии зеркал». Но он идет много дальше своих русских художественных современников. Если в его «Часах» 1914 года время переставало быть открытым качеством жизни и, обретя материальный облик, становилось реальным персонажем, то в шагаловском «Зеркале» пространство уже не только оказывается геометрическим феноменом, но и насыщается особыми духовными качествами. Ведь виднеющаяся в глубинах зеркала покачивающаяся, окруженная лучами слияния керосиновая лампа — это не простое отражение находящегося на невидимой части стола предмета, но и его решительное, многозначное преображение. Ведь в зеркале показано вовсе не то, что оно должно было бы механически отразить по обычным правилам и законам. Это. в сущности, и не зеркало, а окно в иной мир, где реально существующая обстановка этого мира решительно видоизменяется и получает новый облик, новое значение.
Ключ к пониманию такой метаморфозы дает фигурка уснувшего за столом человека. Как и в «Часах», она просто крохотная рядом с размерами предметной части композиции. Но такие масштабные соотношения вовсе не означают человеческого ничтожества перед всесильной властью вечных начал, как это кажется многим критикам. Образная философия в этих картинах имеет совсем иной смысл. Материальная грандиозность предметов, оказывающихся конкретным воплощением времени и пространства, обозначает не их имманентное качество, а метафоры людского воображения. В «Часах» человек у ночного окна самозабвенно размышляет, в «Зеркале»—спит, но все остальное, что представлено в картинах,— плод их романтических видений. Художественная фантазия мастера все чаще начинает строить скаючно-остраненные и переиначенные проекции реального. В том-то и состоит характернейшее свойство этих проекций, что они никогда не представляют собой одни лишь вольные узоры мечтаний, а живут и дышат жизненной конкретностью, которая однако, получает метафорическое образное развитие, зачастую совершенно неожиданное и грандиозное по своей масштабности.
На таком необычном перекрестке полнейшей натуральности изображения и неожиданных взлетов фантазии находится группа классических картин ландшафта, цикла 1914 года, так или иначе связанных с национально-еврейской тематикой.
Старый Витебск. Этюд картины «Над Витебском». 1914 год.
Было бы обоснованно поставить в самом ее начале композицию «Над Витебском». Она имеет необычно большое для Шагала тех лет количество подготовительных эскизов и вариантов, что, несомненно, свидетельствует о ее особом для мастера, даже символическом значении.
Во всех вариантах основную часть изображения занимает подробнейше выписанный витебский пейзаж с видом заснеженной улицы и Ильинским собором справа. И вот на фоне такого буднично-прозаического ландшафта, сделанного, пожалуй, в манере Добужинского, появляется удивительная фигура старика еврея с дорожной клюкой в руке и мешком за плечами, который взлетает над всеми этими провинциальными заборчиками и домиками.
России, ослам и другим. 1911 год.
Летящие по воздуху люди и животные встречались у мастера и раньше, в нескольких картинах парижского периода (например, «России, ослам и другим», 1911; «Париж из моего окна», 1913, и другие). Нотам это были какие-то осколки лихорадочного сознания, расположенные в неопределенном пространстве без верха и низа. Здесь же все окружение спокойно и упорядочено, и именно поэтому фигура, отрываясь от вполне реальной почвы, кажется вздымающейся, начинающей далекий полет. Как следует трактовать такой удивительный и входящий в явное противоречие со спокойной прозой пейзажа фантастический мотив? Многие авторы склоняются к тому, что Шагал в этом случае варьирует классический сюжет неприкаянного странника — «Вечного Жида».
Но если это и верно, то отчасти. Конечно, какие-то отзвуки старинной легенды, наверное. звучали в душе художника, когда он писал картину «Над Витебском». Но ведь никакой иллюстративности в ней нет. Так же как и переноса в вымышленную обстановку, в предполагаемые, далекие от повседневных наблюдений обстоятельства. Напротив! Город изображен именно таким, каким художник наблюдал его из окна комнаты, нанятой им тогда у какого-то полицейского. Все дышит происходящей на глазах жизнью — следы от полозьев и проталины на снегу, зелень недавно покрашенной ограды, голый остов безлиственного зимнего дерева… И вот именно из этой-то рутины привычно и лениво текущих будней вырастает фигура взлетающего ввысь бородача с задумчивым, печальным лицом. В нем — скрытая суть мерно бегущих дней, их душа, их судьба, вбирающая в себя и глухую тоску неустроенной жизни, и историческую память веками гонимого народа. Но все-таки больше всего с этим символическим мотивом связано чувство движения к желанной цели — пройдет еще какой-нибудь год, и победа над земным тяготением станет в картинах мастера образным синонимом обретенного счастья.
Над Витебском. (Старый Витебск). Эскиз к картине «Над Витебском». 1914 год
В одновременном рисунке «Воспоминание», как и в картине «Над Витебском», мастер стремился найти символический образ вечного странничества и сделал это чисто по-шагаловски: изображен старый бородатый еврей, который, направляясь неведомо куда, тащит на плечах свой дом (его дверь открыта, у притолоки стоит какая-то женская фигура). «Все свое ношу с собой»! Древнее присловье в местечковом варианте!
Но важно это сочетание жанровой точности изображения (кстати сказать, дом на спине старика легко узнаваем — он почти точь-в-точь повторяет вид материнской лавки в полотне 1910 года «Свадьба» и нескольких других картинах) с поразительной по своей емкости метафорой. Дом на спине! Вся судьба родных мест и близких людей, все связанные с ними заботы, горести, надежды неотделимы от каждого мига жизни, каждого движения и поступка этого вечного странника. Таков очевидный смысл содержащегося в рисунке образа, явственно перекликающегося с характерами и житейским самосознанием персонажей рассказов и повестей Шолом-Алейхема. Впрочем, было бы сугубой ошибкой придавать этой метафоре (она впервые появилась именно в этом рисунке) только лишь «местечковую» локализацию. Она составляет исходный толчок для шагаловского переноса понятий, который мастер затем использует многократно, выражая этим изобразительным символом весьма различные жизненные аспекты—от судеб отдельных людей до больших общественных перемен (именно в таком плане эта метафора будет использована в одном из центральных произведений мастера, созданном в революционные годы,— об этом еще пойдет речь дальше).
Раввин с лимоном (День праздника) 1914 год.
Сходный перепад пропорций, но еще более условного, даже фантастического свойства, встречается в картине «Праздник» («Раввин с лимоном»). Художник с редкой для него точностью соблюдает ритуальные моменты изображаемого обряда. Сюжет композиции связан с древним осенним праздником урожая («кущей господних»). Обычай предписывал строить шалаш, что напоминало о тех временах, когда евреи скитались в пустыне после исхода из Египта. При молитве полагалось иметь в рук несколько растений; два из них — лимон (символ мудрости) и пальмовую ветвь (символ богатства и силы человека) Шагал вложил в руки раввина.
Однако было бы совершенно необоснованным видеть в «Празднике» еще один «документ», на сей раз связанный с религиозно-обрядовой стороной жизни евреев. ( внешней точности и натуральности изображения Шагал здесь вновь идет к «надреальному» (если использовать термин Аполлинер; как и в композиции «Над Витебском» аналогичных произведениях. Ошеломляют неожиданная фигурка раввина, с такой сказочной естественностью расположенная голове того же ребе, лучшее тому доказательство. Что, собственно, означает эта удивительная «двухэтажность»? Во всяком случае не пустое озорство или претенциозную игру в оригинальность. Художник ищет свой способ показать самоуглубленное размышление молящегося, его приобщение » древней легенде, и к высшим силам быт» Ради этого он взламывает рамки временно: и пространственного жизнеподобия, показывает фигуру одновременно в разных аспектах, что на свой лад расширяет грани духовного смысла образа, дает ему многоаспектность, намекает на близость и возможность чудесного.
Но все же двойственная природа образа более всего свойственна произведениям Шагала, выполненным в 1914 году и выходящих за пределы «документов». Эти произведения с одной стороны, возникали из впечатлений, связанных с конкретной натурой, а с другой — содержат изобразительные моменты смысловые конструкции свободно-метафорического свойства, решительно далёкие от иллюзии непосредственного виденния. Таковы «Часы», «Зеркало», «Над Витебском», «Праздник». Таковы, наконец, и знаменитые «старики» того же года, которые объединяют в себе все его разнородные художественные тенденции, выступающие в таком сложно-парадоксальном объединении.
Шагал рассказывает в «Моей жизни», что реальными прототипами «стариков» (так же как и «раввинов») были нищие, странники, бродячие проповедники, которых он встречал на витебских улицах и зазывал к себе в мастерскую. В «стариках», вслед за «раввинами», есть легко узнаваемые детали провинциального быта, черты очевидного сходства с натурщиками. И вместе с тем этo притчи, символы, даже сказания грандиозного масштаба.
В двух великих созданиях молодого Шагала— «Красном еврее» и «Зеленом еврее» — изображен один и тот же человек — некий «проповедник из Слуцка». Художник усадил его перед входом в свой дом на стул, и бродяга тут же погрузился в полудрему. Тогда живописец принялся за работу, с невероятной быстротой и энергией переходя от исходной натурной основы к образному откровению.
Красный еврей. 1914 год.
В «Красном еврее» есть тщательная, просто усердная детализация. Как тонко и строго выписаны, например, деревце у входа или чернильница с воткнутым в нее пером. Раскрашенные с наивной простотой провинциальные строения, на фоне которых сидит старик, выглядят какой-то деревенской игрушкой. А сам он, усталый и поникший, в своем потрепанном балахоне, на первый взгляд взывает лишь к сочувствию и жалости.
Но именно на первый взгляд… Проходят считанные мгновения, и представленное картиной зрелище начинает раскрывать свои прихотливые странности, свое могучее внутреннее действие. Поначалу замечаются удивительные несуразицы. Почему огромная чернильница с пером оказалась на крыше? Отчего деревце цветет на сухой, пустой земле? Что за письмена начертаны на полукруге небосвода? Наконец, в силу каких причин у этого нищего старика одна рука белая, а другая зеленая; сам он даже сидя оказывается крупнее и мощнее выглядывающих из-за его спины домиков — почему?
Нет нужды отвечать на все эти вопросы по отдельности. Постепенно становится ясным, что перед нами такое же видение, как и в картине «Над Витебском», только еще более драматическое и яростное. Нищий странник преображен здесь во всемогущего мудреца и пророка, а окружает его не провинциальное захолустье, но безграничный мир его мыслей. Он соединяет текущую на глазах жизнь с библейскими преданиями, слова которых возникают на втором плане, как сокровенные тексты на скрижалях.
Конечно же, это произведение символического строя. Но не потому лишь, что художник прибегает в нем к отдельным знакомым деталям (чернильница—атрибут проповеднических писаний, цветущее на голом месте деревце — намек на некие легенды, скажем, на расцветший посох Аарона, и т. д.). Символично все изобразительно-повествовательное действие картины. Духовное могущество внутреннего мира этого человека побеждает и преобразует его тщедушную плотскую оболочку — это сказывается и в титанических пропорциях его фигуры, и в резких изломах лица, как бы сокрушаемого напором мысли, и в чудовищной интенсивности красного цвета бороды проповедника, которая течет как вулканическая лава, как грохочущий поток, явно напоминая подобную же деталь в микеланджеловском «Моисее».
Зелёный еврей. 1914 год
В «Зеленом еврее» та же концепция обретает пронзительно-спиритуалистический аспект. Сочетание жанровой характерности облика с демонстративной антинатуралистичностью цвета (зеленое лицо, золотая борода!) имеет свой существенный смысл. Художник программно утверждает, что все реально видимое должно быть узнаваемым и наряду с этим именно через зримую форму может раскрывать свою невыраженную во внешнем, потаенную суть. В частности, цвет натуры не обязательно оказывается цветом образа. Иногда они смешиваются, а в иных случаях — скажем, в этом портрете — вовсе расходятся. На втором плане виднеются строки из книги Бытия (XII, I—3), слова Бога, обращенные к Аврааму и предвещающие судьбы народа. Проповедник, каким его изобразил мастер, потрясен раскрывающимся его сознанию откровением, и вот все это состояние перелилось для Шагала в особую экспрессию цвета. «Мне казалось,— говорил он,— что старик был зеленым, быть может. Тень падала на него из моего сердца». Иными словами, в этом золотистом свечении волос и в полыхающей зелени лица художник стремился выразить внутреннюю озаренность своего героя. Именно витебский период с особой ясностью показывает, как у Шагала в годы уже наступившей зрелости даже самые эксцентрические приемы служат ясно направленной идее, выношенному и глубокому чувству.
И тут вновь дает себя знать многосторонняя связь мастера с искусством и культурой России. Она проявляется и в неизменной опоре его произведений на реальность впечатлений и предметность художественного языка, что бесспорно идет от русской классики, и в смелости экспериментальных поисков, по-своему продолживших духовную энергию и бескомпромиссность этой классической традиции; такие черты, к слову сказать, свойственны всем крупнейшим художникам-искателям России в начале XX века.
И наконец — быть может, это самое главное,— прежде всего от русского корня идет убежденная и неизменная человечность Шагала. «Стариков» мог написать только живописец, который видел и помнил и репинского горбуна из «Крестного хода», и суриковского юродивого из «Боярыни Морозовой». Военный цикл, как уже говорилось, по-своему отразил общее умонастроение русской интеллигенции в эпоху первой мировой войны.
Душевные качества искусства Шагала были воспитаны и взлелеяны Россией. Это ярчайше сказалось и в его дальнейшей работе.
Бывают художники — наблюдатели и интерпретаторы. Они смотрят на жизнь из некоего отдаления и судят о ней со стороны. Но есть и мастера, которые любой сюжет трактуют как неотъемлемую часть собственной биографии, видят себя прямыми участниками изображаемого, пусть даже это возможно лишь при помощи мечтательных допущений и фантасмагорий.
В искусстве Шагала два характернейших вида творческой типологии чередуются, но второй из них ему несравненно ближе первого. Огромный цикл его произведений 1915—1917 годов целиком принадлежит к разряду автобиографических. Но собственные переживания и оттенки чувств художник переводит в план общечеловеческой значимости.
Главным событием жизни Шагала в эти годы была женитьба на Белле Розенфельд. С ней связан один из самых своеобразных и совершенных образцов любовной лирики XX века.
Бесспорно, Белла Розенфельд была незаурядным человеком. Она получила прекрасное образование: изучала в Москве историю и философию, углублялась в литературную проблематику (темой ее выпускного сочинения в школе Герье было творчество Ф. М. Достоевского), занималась актерским мастерством в одной из студий К. С. Станиславского. Словом, она была приобщена к высотам интеллектуальной жизни эпохи.
Белла и Марк с первой же встречи не только поняли друг друга, но как бы слились душами и стали нераздельны. Многое из того, что мы привыкли считать традиционно «шагаловским», перешло к мастеру от Беллы и стало неотъемлемой частью его собственного существа, человеческого и творческого. Можно сказать, что Белла стала соавтором его личных и творческих качеств, его поэтического мира. Она и чувствовала себя не только Галатеей, но и Пигмалионом.
День рождения. 1915 год.
«День рождения» можно считать ключевым произведением периода, которое содержит в себе основные черты поэтики и стилистики Шагала в те годы.
Пожалуй, главная и определяющая среди них — полная естественность связи реального и сказочного. Метафора не накладывается на изображение, не формируется исходной необычностью всей обстановки, а напротив, словно бы сама собой вырастает из ее жизненной сути. Конечно, центральный мотив взлета преодолевающих земное тяготение возлюбленных—совершенно невероятен. Но идеально-натурные детали обстановки, вызывающие безусловное доверие, создают среду самого обычного течения повседневности. Иными словами, художник поднимается к ирреальности по ступеням реального. В самом деле, что может быть более убеждающе-достоверным, чем этот спокойный пейзаж полдневного Витебска за окном, эти узорчатые коврики на стене, стол нехитрым натюрмортом? Как всегда у Шагала, известная наивность раскраски сочетается с тончайшим артистизмом колористических отношений, условность некоторых перспективных аспектов и рисуночных контуров — с прочностью и последовательностью общего композиционного построения. Оттенок «детскости» восприятия не становится ведущим свойством стиля, скорее он выглядит как дополнительная краска на общей эмоциональной палитре этой композиции, мечтательно-романтической и по-своему глубоко зрелой, совершенной. Шагал принадлежит к тем художникам, которые доказывают, что у детской психологии есть пожизненныe права—каждый момент счастья в его трактовке обладает детской целостностью чувства и способностью просто и убежденно допускать чудесное в окружающую жизнь. Так и тут, в картине «День рождения». ощущением счастливой душевной полноты, красоты и безграничности любовного чувства пронизана вся изображенная сцена вплоть до самой малой детали. И если общеизвестную словесную формулу «полет чувства» обычно даже поэты воспринимают как метафору, то для Шагала это буквальное действие, которое он показывает с такой же само собой разумеющейся естественностью и простотой, как цветы на ковре или милый сердцу витебский вид. Это именно такое неотторжимое сочетание реальности и вымысла, будничного и фантастического, которое составляет природную основу жанра сказки и вообще фольклорного мышления. Шагал дал этому сочетанию новую жизнь и ввел его в практический обиход профессионального искусства XX столетия.
Пожалуй, достигнутый при помощи такого сочетания образный парадокс — свободное парение людей в небесных пространствах — самое прославленное из творческих откровений Шагала. Давно уже, называя его имя. прежде всего вспоминают о летающих персонажах— метафоре обретенного счастья.
Но ведь она впервые получила свою художественную законченность именно в тех работах мастepa, которые пронизаны чувством любви и стремятся найти для нее глубокое и впечатляющее живописно-поэтическое выражение. Как мастер любовной лирики Шагал просто не имеет себе равных в искусстве нашего века. А в свою очередь классическими для шагаловских произведений этого рода оказываются его картины и рисунки 1915—1918 годов. И прежде всего—сделанные в Витебске и связанные с тем строем чувств, которые тогда захватили и поглотили художника.
Ощущение чуда в этих произведениях есть всегда, даже если ничего необычного в них не происходит. Тоньше и живописнее, чем где бы то ни было (живописнее в прямом и переносном смысле слова), это раскрылось в серии парных портретов возлюбленных, которые написаны в 1915—1917 годах. В нее входят около десяти картин и два графических листа. Возможно, что существуют еще несколько не обнаруженных пока что произведений этого цикла — Шагал в эти годы работал с невероятной интенсивностью, а судьба картин и рисунков того периода известна и прослежена далеко не всегда.
Персонажи «пар», входящих в цикл, одновременно и индивидуальны и типологичны (характернейший фольклорный принцип). Иногда мастер изображает возлюбленного с явной автопортретностью, а женщине — придает черты Беллы. В других случаях прямого сходства нет, но общие свойства характера да и физического облика, в сущности, те же самые. Словом, художник всякую любовь представляет себе как свою собственную. Очевидно, он просто не может иначе — нечто подобное будет впоследствии встречаться в его произведениях сотни раз; исключения (да и то относительные) встретятся разве что в поздних иллюстрациях.
И всякий раз любовные сцены у Шагала несут на себе печать соприкосновения с чудом и волшебством. Позже решения подобных сюжетов чаще всего свяжутся с эксцентрической зрелищностью и совершенно фантастическими ситуациями и переносами понятий. В «Любовниках» витебских лет ничего этого нет, но само чувство любви предстает здесь в таком изумительном, дивном живописном обличии, что воспринимается как подлинное поэтическое откровение, похожее на счастливый сон. Более всего это относится к двум шедеврам мастера — «Зеленым любовникам» и «Возлюбленным в голубом». Обе эти картины пока что не оценены как следует критикой и историей искусства, они практически неизвестны широкому зрителю, ибо находятся в частных собраниях СССР и лишь сейчас появились на выставках. Между тем, уже хотя бы в силу своего живописного совершенства, эти картины смело могут называться среди классических произведений нашего века.
Зелёные любовники. 1914-1915 годы.
Для «Зеленых любовников» Шагал создал несравненное «варево специй», как сказал А. Эфрос Картина чем-то напоминает витраж, ибо тончайшие оттенки синего, розового и зеленого охвачены игрой света, напряженного в отворотах платья возлюбленной, медленно затухающего в красочном строе лиц и фона. Этот свет не падает откуда-то сбоку, а скорее струится изнутри, причем не подчиняется никаким оптическим законам, ибо по их нормам и правилам не могли бы появиться ни мерцающая синева, которая насквозь пронизывает голову мужчины, ни зеленые переливы на щеках, ни ослепляющие вспышки в нескольких деталях композиции. Вся эта удивительная, не вызывающая никаких прямых аналогий цветовая среда составляет поэтическое сердце картины. Именно она создает ощущение радужной красоты, мечтательного, романтического сновидения. Сливающиеся в поцелуе лица возлюбленных лишены мимики, они застыли, как маски. Любовь в этой картине имеет цвет и свет, а не фабулу; она воссоздана поэзией красок, которые оказываются способными на волшебство без эффектных сюжетных подпорок.
Любовники в голубом. 1914-1915 годы.
Также и «Возлюбленные в голубом». У любви здесь цвет вечернего неба. Из его густого марева лики возлюбленных выступают не полностью, они принадлежат этой синеве как живой ткани их чувства. Любовной ситуации придан в картине открыто-карнавальный характер: он предстает в костюме арлекина, у нее—лицо как белая маска. Художник, казалось бы, не хочет прибегать к помощи традиционного, мимически и сюжетно выражаемого психологизма. Но картина все же явственно «рассказывает»— выразительно объятие, след искреннего чувства лег на облики-маски, да и сама пронизанная любовными токами ночи трепещущая синева тоже на свой лад повествовательна. Настроение цвета сливается с характером мизансцены. Все это в равной мере отличает «Возлюбленных в голубом» и от раннего Пикассо с его несомненно рационалистической зрелищностью, и от эффектной театрализации «мирискусников», иногда не лишенной салонного оттенка. Ближе всего в этом случае Шагал оказался к стилистике Виктора Борисова-Мусатова и «Голубой розы». Однако даже и в тех произведениях мастера, где нет открыто выраженной фантастичности, он много экспрессивнее (особенно в характере колористических решений), чем эти названные сейчас его русские художественные современники. Ведь и в полотнах, лишенных действия, Шагал всегда словно срывается в метафоричность. Причем .его метафоры не замешены на символике (как у Борисова-Мусатова или раннего Павла Кузнецова). Более всего они связаны с внутренней многозначностью образа, выходящего за рамки «прямой речи» натурного изображения.
Ландыши. 1910 год.
Эта особая диалектика внешнего облика и внутреннего значения, прорывающейся наружу экспрессии составляет душу шагаловской картины 1916 года «Ландыши». Вроде бы в ней нет ничего такого, что отклонялось бы от убедительного жизненного правдоподобия. Изображен интерьер скромного витебского дома. Его общий вид вполне обычен. На первый взгляд замечается лишь одна странность: посреди комнаты на каком-то сундуке стоит огромная корзина ландышей, декорированная тканью с пышными розовыми бантами,— эта корзина буквально заполнила всю комнату. Наверное, это подарок возлюбленной, Белле Розенфельд, которая уже стала женой художника.
Словом, перед нами вариант того же сюжета, что и в картине «День рождения». И вновь торжествует ощущение вдохновенно-радостного праздника жизни. Ради такой образной цели предпринят столь характерный для Шагала и идущий еще от иконописи прием резкого масштабного выделения детали, имеющей ведущее смысловое значение (в данном случае — корзина с цветами). Но этим сугубо условным перепадом пропорций метафорическая сущность картины не исчерпывается. Ведь изображение лишь формально можно назвать «натюрмортом». Ландыши живут удивительной, таинственной жизнью. Полные напряженного внутреннего света, буквально излучая его, эти прячущиЬся в зелени цветы рвутся к высотам, шелестят, колышутся. Они похожи на весенний лес, освещенный солнцем. Так складывается построенная на музыкально-цветовых ассоциациях метафора красоты жизни, молодости, счастья. Художник одухотворяет предметы, придает им подлинно человеческую выразительность. И уже хотя бы в этом на редкость красноречивом пантеизме достигает уникального своеобразия.
Такого рода двуплановость свойственна всему творчеству Шагала в предреволюционные годы. Произведения внешне обычного свойства, лишенные открытых условностей и отклонений от жизнеподобия, почти всегда имеют у него какую-то скрытую метафоричность. Напротив, картины и рисунки, в которых сюжетное действие в той или иной мере сказочно, фантастично, всегда опирается на безукоризненную реальность деталей. Это образно-стилевое сочетание, окончательно сложившееся в 1915—1917 годах, сохранится у Шагала до конца его жизни.
Для работ первого типа характернее всего обширный «дачный цикл», который был начат в 1915 году, когда после свадьбы Марк и Белла проводили свой медовый месяц в окрестностях Витебска. Цикл был продолжен и в 1916 году, после рождения дочери Иды (она стала постоянным персонажем картин), и в 1917-м, после отъезда в Петроград.
Во всем «дачном цикле» последовательно соблюдается натурность — позже, в зарубежные годы, это уже никогда не встретится у художника. Но еще Эфрос очень точно подметил метафорическую сущность этого цикла — «человек в раю», причем во имя «умиленной элегичности и небурной радости» такой образной тематики мастер, по словам критика, «насвистывал на свирели».
Сам художник вспоминает об этой счастливой, «свирельной» поре своей жизни, что тогда вместе с Беллой в его дом входили «голубой воздух, любовь и цветы», а самый этот дом в деревне окружали «лес, пихты, молчание… сиреневое небо».
Лежащий поэт. 1915 год.
Эту безмятежную и волшебную «жизнь в раю», пожалуй, наиболее выразительно запечатлела картина «Лежащий поэт». Сплошная идиллия! Малиновые небеса, недвижные, словно вырезанные силуэты деревьев, ровная зелень лужка, мирно пасущиеся животные… И придвинутая к самой передней границе холста лежащая фигура. «Поэтом» назвал ее сам автор. Но, разумеется, самое слово «поэт» употреблено в широком его смысле, обозначая не профессию, а душевное состояние. Мотив целиком автопортретный или, точнее сказать, автобиографический, ибо внешнее сходство художника нимало не заботило и он вновь прибегнул к маске-знаку. Это в определенном смысле показательно, ибо ведь и вся композиция при ее внешней натурности. однако же, достаточно условна— более всего она напоминает сценическую выгородку, где компоненты лишь обозначены для общего узнавания: плоскость лужка покрыта ровной, безоттеночной зеленью, деревья силуэтны, само первопланное положение «поэта» с его резко удлиненной фигурой нарочито искусственно, что и завершает впечатление театральности. «Поэт» несколько напоминает давно уже полюбившиеся мастеру персонажи типа Пьеро, Арлекина, бродячих акробатов. Должно быть, отсюда идет и традиционный для них оттенок грустной задумчивости, входящий в известное противоречие с общей интонацией счастливого блаженства, свойственной картине.
В ней декоративность цвета сочетается с легким налетом кубизма, ощутимым прежде всего в изобразительной трактовке центрального персонажа. Любопытно, что такое же сочетание встречается в созданном практически одновременно (даже чуть раньше — осенью 1914 года) портрете поэта Анны Ахматовой кисти долголетнего друга Шагала (во Франции и в России) Натана Альтмана. И
у него также есть кубистическая кристаллизация формы, определенная двойственность общей концепции, сочетающей реальность и видение, воображаемое и действительное.
Но у Альтмана подобные черты лишь промелькнули в нескольких картинах. А у Шагала двузначность образа — основа поэтики. Даже в «дачном цикле», самом натурном и самом умиротворенном из всех его произведений молодых лет. В любом из полотен этого цикла, сколь бы он ни был внешне достоверен, в каких-то сюжетных подробностях или — еще больше — в образных оттенках проскальзывают парадоксальность и метафоричность.
Окно на даче. Заольшье близ Витебска. 1915 год.
Так, в картине «Окно на даче. Заольшье близ Витебска» к спокойнейшему лесному виду, глядящему в окно, и «тихому» летнему натюрморту добавлены две громоздящиеся друг на друга головы-маски Беллы и Марка (еще одна любовная пара!) — и эта деталь сразу же делает композицию необычной и странной. К слову сказать, такой мотив «двухэтажности» голов встречался десятилетием раньше в картине одного из учителей Шагала М. Добужинского (я имею в виду его работу «Окно парикмахерской», 1906, ГТГ). Но у Добужинского на гротесковый манер показаны манекены, похожие на людей, а Шагал, наоборот, портреты определенных лиц превращает в маски (хотя прямое использование Шагалом сюжетного «хода» Добужинского в данном случае представляется вполне вероятным). Так или иначе, но подобное сопоставление вполне условног о и натурно-конкретного изображений меняет всю внутреннюю структуру образа. Пейзаж и натюрморт уже перестают быть «просто» пейзажем и натюрмортом — это скорее воспоминание молодой четы о днях своего медового месяца, сопоставленное в разных временных измерениях и допускающее (при обращении памяти к прошлому) любые смещения и странности.
В нескольких других произведениях «дачного цикла» образная идея «жизни в раю» также не ограничена лишь спокойно-любовным созерцанием натуры, но всегда включает и некие «волшебные» элементы. Таков, к примеру, один из излюбленных Шагалом приемов своеобразного оптического расширения пространства при помощи нарочито малых масштабов включаемых в композиции фигур, а также сложной игры света, которая создает ощущение свободного перехода из одной интерьерной зоны в открыто-пейзажную. Эта стилистика более всего свойственна петербургской части «дачных» картин, выполненной летом 1917 года,— «Интерьер на даче», «Белла у стола», «Белла на террасе», «Интерьер с земляникой». Во всех этих произведениях изображенные фигуры выглядят миниатюрными рядом с широким разлетом пространства интерьера. В картине «Интерьер на даче» (называемой иногда «Окно в сад») кроме крохотной фигурки Иды, сидящей на детском стульчике, виден еще профиль Беллы за окном. Он дан совершенно плоско, кажется словно бы вырезанным и прислоненным к окну, что, конечно, оказывается еще одним странным, сказочным штрихом.
Но еще важнее, что пространство в этих картинах как бы дематериализовано живой и динамической игрой света, бликов на стенах 20, необычной для мастера приглушенностью, почти прозрачностью колорита, словно бы взятого «на просвет». Пожалуй, ни в каких иных группах произведений Шагала нет такого явственного преобладания белых тонов в сочетании с голубыми и зелеными (также весьма просветленными) — этот тип мечтательно-призрачного цветового решения опять-таки близок к характерному красочному строю в полотнах В. Борисова-Мусатова.
И вот все эти тонкие, перламутровые переливы света, слияние пространств, таяние стен, словно пропускающих солнечные лучи и благоухающий воздух садов, создают дивные в своей проникновенности и свежести, так сказать, сказочно-реальные сцены счастья, красоты, сердечной отзывчивости.
Все сцены подобного рода именно сказочно-реальные, в них очевиден оттенок притчи, только не слишком явный и более всего ощущаемый в изобразительном строе картин. Один из маленьких шедевров этой серии —«Купание ребенка» 1916 года. На первый взгляд эта картина ничем не отлична от живописных жанров обычного типа: скромно обставленная комната, ребенок в корыте, склонившиеся над ним мать и нянька… Но, не говоря уж про легкую кубизированность форм, все они, при внимательном рассмотрении, оказываются сдвинутыми, слегка покосившимися, представленными в неожиданных перспективных ракурсах. В силу этого вся композиция пронизана беспокойным движением, очень своеобразным и удивительным чувством происходящего на глазах изменения и преображения реальности, которые и осуществляются через такую ломку и динамику форм. К этому надо добавить, что центральная группа — две симметричные фигуры женщин и застылый, странно-серьезный ребенок,—очевидно, связаны с иконной традицией. Столь многозначительный намек придает внешне бытовой сцене особый смысл и символику.
Все же в картинах этого ряда чудесное, сверхреальное не показывается в открытую, оно лишь как бы запрятано в глубинах образов и формальных структур.
Белла в белом воротнике. 1917 год.
Так, бесконечно повторяемый в эти годы художником облик его молодой жены Беллы одним из холстов — «Белла в белом воротнике» (1917) — неожиданно представлен с молитвенным преклонением, как возвышающееся над всем будничным и преходящим божество.
Собственно, тут ведь тоже все составные части композиции совершенно конкретны и взяты «по натуре». Разве только кристаллические облака создают за фигурой Беллы совершенно особый фон и написаны в каком-то торжественно-астральном духе. А так и сама она, и сад на первом плане, где изображен художник, который придерживает за руки дочку, делающую первые, робкие шаги,— все это показано с чрезвычайно четкой, даже подчеркнутой реальностью.
Но пропорции между отдельными частями изображения взяты столь неожиданно, что иллюзия внешней достоверности взорвана и уничтожена без остатка. Белла в черном платье с белым воротником, слегка изогнув свое юное тело, четким, резким силуэтом вписана во всю высоту изображения, как бы упираясь головой в высокое, светлое небо. Несмотря на полную современность и портретность своего облика, она и особой грацией фигуры, и всей своей тончайшей духовностью напоминает мадонн Ренессанса. Эта тема возвеличивающего обожествления сильнее всего подчеркнута чудом масштабных сопоставлений, благодаря которым все земное как бы расстилается у ног женщины-богини новых дней.
Необходим был величайший такт художника. чтобы подобная символика не показалась претенциозной и не вызвала бы сомнительных параллелей с немецким модерном Беклина и Штука. Но этого ни в малой мере не произошло. Шагал инстинктивно нашел абсолютно убеждающее взаимоотношение реальных, жизненных черт и романтической метафоричности. В картине нет и намека на декламационность, напыщенность. Она скорее трогательна в своем бесконечном любовном восторге и светлой искренности чувства.
По своей стилистике эта картина соприкасается не только с кубистической геометризацией формы, но и с идеальной «сделанностью» Павла Филонова, и с чеканно-граненой манерой письма русских живописцев «неоклассического» направления (таких как Борис Григорьев. Александр Яковлев, Василий Шухаев). Однако во всех случаях это лишь какое-то «двоюродное» родство. Шагал в этой картине и жизненно органичнее, и духовно тоньше всех упомянутых сейчас художников. С еще большим основанием можно сказать то же самое и при сравнении работы мастера с произведениями сюрреалистов. которые нередко использовали найденный Шагалом прием фантастического сопоставления реально изображенных деталей повседневного.
«Белла в белом воротнике» — самый величавый и вдохновенный из тех художественных парадоксов, которые порождены в 1915—1917 годах воображением Шагала — творцом «мифологии счастья». Такой строй фантазии окажется почвой и для прекраснейшего из творческих открытий Шагала — мотива свободного полета человека над землей. Но этот мотив найдет свое окончательное оформление уже в годы после революции (хотя начальная стадия его разработки относится к более ранней поре).
Подобные же переходы от скрытой затаенной метафоричности к прямой фантасмагории можно наблюдать и в жанрово-пейзажных композициях Шагала, относящихся преимущественно к 1917 году. Художник с семьей жил тогда в Петербурге, но осенью на краткий срок приехал в Витебск, где исполнил целую серию видов, весьма сложных и оригинальных по своей стилистике и образным оттенкам.
Кладбищенские ворота в Витебске. 1917 год.
Самое значительное из произведений этой серии — картина «Кладбищенские ворота в Витебске». По своей стилистике и образной масштабности она бесспорно напоминает шагаловскую «Голгофу» 1912 года. Но в «Кладбищенских воротах» больше земной чувственности, искреннего, личного приобщения к изображенному. Пророческие слова бога, начертанные (по-еврейски) на воротах,— «Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву» (Иезекииль, XXXVII, 12) — трактованы здесь скорее как девиз всеобщих изменений в мире, которые художник предчувствует с яростным волнением и потрясен-ностью. Тихая жизнь старого, полузаброшенного кладбища совершенно преображена этой душевной бурей, увидена как мощное и пронзительное откровение. Плотное геометризованное небо состоит из голубых и белых пластин, которые, словно знамение, спускаются на землю с неведомых высот. Их прямым продолжением кажется зеленая крона дерева, ставшая колышущейся плоскостью и прорезанная ослепительно-светлой вспышкой, словно бы возглашающей явление чего-то неожиданного и поражающего. Предчувствие чуда составляет внутреннюю суть картины.
И хотя она изображает кладбище, вряд ли можно ограничить ее содержание только лишь трагическими переживаниями и размышлениями (какие вызывает, например, однородное по сюжету «Еврейское кладбище» Якоба ван Рейсдаля, ок. 1650—1655). Мощная энергия чувства, отличающая полотно, свойственная ей приобщенность к всеобщим и коренным силам бытия делают это произведение замечательным образцом философской лирики в живописи. Она лишь ненадолго (в 1914—1947 годах) уступила ведущее место настроениям счастливого покоя. Но и тогда, рядом с его умиротворенно-гармоничными видениями, художник вновь и вновь набрасывал картины потрясенного и переживающего великие перемены (или ожидающего их) мира. И ради такой цели время от времени по-прежнему прибегал к грандиозным гиперболам и парадоксам. И если в таких картинах, как «Кладбищенские ворота», эти образные черты живут лишь во внутреннем строе живописи, то в некоторых других произведениях они выступают открыто, касаясь уже и сюжетной стороны композиций. Так происходит, например, в работах этих лет, где показан «человек, несущий улицу». Называющийся так рисунок 1916 года имеет несомненный витебский колорит— молодой человек в картузе, поддерживающий плечом целый квартал домов, церквей, заборов,— автопортретен, а все изображенные строения мгновенно приводят на память виды родного художнику города. Но какова сама идея композиции! Кусок Витебска, как символ, как судьба, утратив реальные соотношения масштабов, прислонен к плечу жителя этого города. Такие символизированные структуры, разрыв обычных связей, наконец, поражающая странность, фантастичность обыденного как нельзя более характерны для «гротескного» мировосприятия. Оно полностью определяет и концепционную систему такой картины, как «Где-то вне мира» (1915). Улица витебской окраины, поставленная сбоку «на попа», три четверти фигуры, плоским силуэтом очерченные на фоне светлого небесного пространства, и рядом—отсеченный кусок головы, плавающий сам по себе… Причудливый, необычный мир, где все сместилось, перемешалось и создается заново. Эта идея буквально преследует Шагала в предреволюционные годы и метафорически отражает его ощущение драматической неустойчивости жизни; в представлении художника, она сотрясается какими-то таинственными силами, сдвинулась со своих осей и стремительно мчится к новой, еще неиспытанной гармонии. При всей тревожности и загадочности этого ощущения, оно в самой живописи Шагала до такой степени насыщено нескончаемой витальной
энергией, так бушует и клокочет в своем порывистом устремлении к неведомому и, верится, прекрасному, что органично сливается с образами высокого счастья, составляющими суть и смысл большинства других произведений мастера, выполненных в 1915 — 1917 годах.
Александр Каменский.
Близкие Марка Шагала рассказывают, что незадолго до кончины (ему шел 98-й год!) он, вдруг ослабев духом, вообразил, что находится в Витебске. Все окружающее казалось ему витебской окраиной, где лепятся друг к другу маленькие домики, торгуют лавки, лениво бредут прохожие. Вот придет отец, работающий у купца-селедочника, вынет из карманов маленькие подарки, зажжется керосиновая лампа, начнется вечер…
Жизнь кончалась так же, как начиналась. Только все, что когда-то было реальностью, превратилось в туманный призрак. Но этот призрак никогда не покидал сознание Шагала. В его рисунках русского периода есть изображения чудаковатых витеблян — то молодого, то пожилого, которые тащат на головах свои дома, улицу, город с церквами и синагогами. Конечно, это характернейшая метафора — шагаловская метафора! — слияния человека и мира. Но для мастера она имела еще и буквальное значение. Со своим Витебском, с родной ему Россией он не расставался всю жизнь; образы детства и юности всегда присутствовали в создаваемых им полотнах, росписях, витражах, что бы они ни изображали, пусть даже рай небесный, библейские долины, праздник музыки и что угодно другое.
Это одна из загадок Шагала. Кажется, она не имеет аналогий в истории искусства. Конечно, были художники, которые всю жизнь писали пейзажи тех мест,’ где они родились и жили, их повседневность, привычный облик окружающих людей. Это совершенно обычный случай. Но чтобы живописец, уехав из родной страны и прожив за ее рубежами более шестидесяти лет, видел перед собой воочию и показывал с немеркнущей свежестью родные места — ничего подобного не припомнить за многие века.
Такой феномен не объяснить набором дежурных банальностей — «любил свой край», «всегда помнил родителей» и т. д. Было что-то особое, глубоко индивидуальное в художественной психологии Шагала. Очевидно, самые представления о красоте, любви, гармонии, природе, людских ликах сложились у него в ранние годы. Получив художественно-поэтическую реальность в работах мастера, они так и остались на все последующие десятилетия неразрывно связанными с исходными образами, которые обрели у Шагала (до известной меры) значение символических знаков.
Когда художник в 1973 году приехал в СССР, все ожидали, что он обязательно отправится в Витебск. Тем более что один из родных домов (второй по счету), с которым у него было связано так много воспоминаний, сохранился (на бывшей Второй Покровской, теперь улица Дзержинского, 11). Однако художник, всех изумив, наотрез отказался от поездки в страну своего детства. При встрече с ним я спросил его о причинах такого странного отказа. «Вы знаете, — сказал он в ответ, — в мои 86 лет некоторые воспоминания нельзя ни тревожить, ни обновлять. Я не видел Витебска более 60 лет — огромный отрезок времени, да еще в войну с Гитлером город почти полностью разрушили, а потом отстраивали. То, что я увижу, скорее всего окажется для меня чужим. И то, что живой частью входит во множество моих картин и рисунков, окажется несуществующим, исчезнувшим с лица земли. Мне это будет невыносимо больно видеть. Я просто заболею». И он не поехал, продолжая день за днем мысленно видеть свои не-. потревоженные воспоминания. Десятилетием позже Шагал писал в Россию: «Да, я всегда вспоминаю мой город, и он почти на всех моих картинах»; «…сижу в Saint Paul, не выезжаю почти в другие города. Но моя родина всегда на моих картинах».
Марк Шагал родился 7 июля 1887 года на окраине белорусского города Витебска (нередко встречающееся утверждение, будто местом рождения художника было местечко Лиозно, ошибочно). Отец живописца Захар служил рабочим у купца-селедочника, мать Фейга содержала мелочную лавочку. Семья была многодетной — 7 сестер, 2 брата. Марк — старший среди них.
Здесь нет места для подробных биографических сведений. Но одно примечательное свойство психологического склада юного Шагала хотелось бы все-таки отметить. Это какие-то интимно-близкие взаимоотношения с космосом. «Я ничего не говорю о небе, о моих детских звездах, — пишет Шагал в первой главе своей автобиографической книги «Моя жизнь». — Это мои звезды, мои дорогие; они сопровождают меня в школу и ожидают меня на улице, покуда я вернусь. Бедные, извините меня. Я оставил вас одних на такой головокружительной высоте».
Лирические собеседования со вселенной — не выдумка, не поза, не кокетство. Это особый и по-своему органичный способ мировосприятия. Он связан именно с детством и юностью будущего художника. С годами это качество становится затаенным, внутренним, в то время как внешняя сторона повседневного оказывается для него более обычной и прозаической — метафора уходит целиком в область искусства. Но та пора, когда у Шагала еще не было день за днем той душевной разрядки, которую может дать только творчество, когда метафоричным, сказочным, полным тайных начал и легенд для него оказывалось все окружающее, жизнь витебской окраины оборачивалась как бы средой и материей захватывающе увлекательного, тревожного и радостного, совершенно еще непознанного мира.
Есть два основных аспекта темы России в творчестве Шагала. О первом уже говорилось — это характерные сюжетные мотивы, связанные с российскими впечатлениями; художник бесконечно возвращается к ним на протяжении своей долгой жизни, причем в зарубежный период это пристрастие не только не ослабевает, но даже приобретает порой ностальгическую остроту. При всей своей несомненной, принципиальной важности данный аспект представляет собой, так сказать, верхний, очевидный слой проблемы.
Второй (и главный) — это своеобразное, во многих отношениях парадоксальное отражение общественного и психологического уклада жизни России начала XX века в творчестве Марка Шагала. Как часто историки искусства, занимаясь своими профессиональными вопросами, обходят или недооценивают внутреннюю связь художественных исканий с жизнью времени, большими социальными и духовными переменами. Случалось, что такую связь точнее * зорче искусствоведов отмечали сами художники или литераторы. Так, Борис Пастернак в одной своей статье с острой образностью поэта и с мудростью зрелого ученого говорил о том, как в конце XIX — начале XX века «дыханье… времени совсем особенно сложило угол зрения новых художников… Они писали мазками и точками, намеками и полутонами не потому, что им так хотелось и что они были символистами. Символистом была сама действительность, которая вся была в переходах, в броженье, вся скорее что-то значила, нежели составляла, и скорее служила симптомом и знаменьем, нежели удовлетворяла. Все сместилось и перемешалось, старое и новое, церковь, деревня, город и народность. Это был несущийся водоворот условностей, между безусловностью оставленной и еще не достигнутой, отдаленное предчувствие главной важности века — социализма — и его лицевого события, русской революции».
Прекрасное, удивительно глубокое наблюдение! А если иметь в виду область изобразительного искусства, то можно сказать, что Пастернак предугадал те выводы, к которым пришли искусствоведы разных стран после долгой и разносторонней работы по изучению художественного процесса в начале нынешнего века. Напомню о знаменательных выставках «Париж—Москва» и «Москва—Париж» 1979—1981 годов. Как ярко показали они тот «водоворот условностей», в который было погружено искусство России и Франции (да и всей Европы в целом) на протяжении первых трех десятилетий XX века! В отобранных для этих экспозиций лучших, характернейших произведениях того периода (работы Шагала были среди них) развитие человеческой цивилизации предстало во всем своем напряженнейшем драматизме, а русская революция осознавалась именно как «лицевое событие века», в котором многие из противоречий эпохи находили свое косвенное отражение и (в мечтательно-идеальных формах) гармоничное разрешение.
Искусство Марка Шагала сложно и неповторимо соединяло в себе и «несущийся водоворот условностей», и сугубо эмоциональное предчувствие русской революции. Понимал он ее по-своему, преломляя через свои сложные философские, нравственные и художественные искания, свойственные ему, так же как и всем крупным мастерам той поры. Плоским иллюстратором событий Шагал никогда не был, его образы носят по преимуществу сугубо ассоциативный характер и говорят на языке метафор.
Иногда Шагала представляют чуть ли не самоучкой. Это величайшее заблуждение. Он получил весьма основательное профессиональное образование. Другое дело, что витебский мастер в годы учения был «гадким утенком», который не слушался наставников и искал свой путь. Но школу технического ремесла он прошел самую основательную.
Первым его учителем стал воспитанник П. Чистякова Ю. Пэн, открывший в Витебске художественную школу. Шагал получил у Пэна не столько мастерство, сколько умение. Его отшлифовали занятия в нескольких петербургских учебных заведениях, среди которых особенно важным оказалась студия Е. Званцевой, где преподавали видные художники «Мира искусства» М. Добужинский и Л. Бакст.
Все петербургские произведения — это своего рода самоотчет художника, пытающегося разобраться в нахлынувших на него впечатлениях от весьма различных систем цветового построения картин. Впечатления эти очень пестры — и импрессионисты, и Гоген, и «Мир искусства», и «Голубая роза». Все это отражается в ранних произведениях Шагала. В них нет лишь ни малейшего признака академических тенденций. Натура, бесспорно, сохраняет для молодого мастера свое первичное значение, но он свободно обращается с ней, стремясь к самой широкой обобщенности цвета. В таком, например, произведении, как «Маленькая комната» (1908), во имя экспрессивной и декоративной выразительности художник без колебания отступает от строгого следования видимым формам и краскам. Силуэтные абрисы преобладают в полотне над объемным изображением, композиция кажется плывущей, покачивающейся, ее пронизывает какое-то неясное волнение. Соотношение розовых, коричневых и светло-зеленых оттенков цвета вполне условно; они сочетаются между собой скорее по ковровому принципу, чем в зависимости от реальной окраски предметов. В целом же жалкая и убогая комнатушка деда из Лиозно преображена в светлое, празднично-красочное видение, которое, правда, дышит затаенным беспокойством.
В такой двойственности весь Шагал петербургских лет. Он смешивает восторг и тревогу, верность непосредственному впечатлению и свободный отход от него. Именно на этом пересечении появляются и первые «примитивистские» тенденции в его творчестве. Дело тут вовсе не в наивности, а в полной непосредственности изображения. Исповедальная доверчивость предшествует свободному упрощению и, пожалуй, в первую очередь предопределяет его.
Но буквально в те же месяцы, когда были созданы работы «примитивистского» плана, Шагал пишет картины, пронизанные классическими интонациями («Марья-сенька», 1907; «Автопортрет с кистями», 1908; «Моя невеста в черных перчатках», 1909). Тут возникает сложный стилистический сплав. В «Автопортрете с кистями» ясно звучит классическая тема. Художник вполне умышленно избрал традиционнейшую позу живописца, стоящего перед невидимым мольбертом, построил цветовую композицию на сугубо «музейных» соотношениях черного костюма, резкого по своей белизне воротничка и коричнево-золотистого цвета лица и правой руки. Шагал, который еще не так давно делал копии с журнальных иллюстраций, теперь гордо демонстрирует свою приобщенность к миру высших художественных ценностей. Недаром же живописец изобразил себя в облике мастера прошлых веков, равноправным собеседником на пиру великих. Конечно, в этом есть некое самоутверждение, подчеркнутое горделивой позой автора. Но и скрытая ирония тоже. Очевидна театральность композиции, это же игра с тенями классики. Предвестием будущих шагаловских принципов является здесь мотив маски…
Портрет Беллы-невесты полон любовного восторга и преклонения. В нем есть какая-то особая тонкость чувства. Бесспорно, что он также учитывает классические традиции. Расположение фигуры на первом плане, во всю высоту полотна идет от ренессансных образцов. Контрастные соотношения темного фона и сверкающего белого платья с небольшими вкраплениями узорчатой скатерти слева, зеленой ветви в правом верхнем углу, лиловых берета и брошки, наконец, черных перчаток, пожалуй, отзываются на уроки испанского колоризма от Веласкеса до Гойи. Впрочем, и французские редакции такой цветовой оркестровки (например, у Эдуарда Мане) тоже, думается, приняты во внимание. При всем том образ «Невесты в черных перчатках» пронзительно современен и тысячами нитей связан с жизнью российской интеллигенции начала XX века.
«Моя невеста в черных перчатках» и несколько других работ петербургского периода были прощанием с прямыми формами соотнесения шагаловских произведений с классикой. Но многосложная косвенная связь с прошлыми традициями, с опытом высших достижений искусства предшествующих веков сохранится у него на всю огромную творческую жизнь. В ее итоге такая связь и соотнесенность завершатся слиянием работ мастера из Витебска с классическим наследием мирового искусства — к его лику он будет приобщен еще при жизни.
В некоторых произведениях Шагала, относящихся к петербургскому периоду, раскрывается его близость к творческим идеям русского символизма и вместе с тем к театральной стихии отечественной культуры начала XX века. Примечательна в этом плане одна из программных картин мастера — «Деревенская ярмарка» («Кер-месса») 1908 года. По многим свидетельствам, она сделана под непосредственным влиянием знаменитой постановки «Балаганчика» А. Блока в театре В. Ф. Комиссаржевской. Но конечно, полученные впечатления перенесены в другой, живущий своими особыми законами мир, который обладает сугубо шагаловскими чертами. У Блока, при всей странности и характерной символической смутности действия, оно все же обладает внутренней логикой и определенным единством. А Шагал, словно бы в параллель поэтическому синтаксису В. Хлебникова, строит композицию на сочетании множества абсолютно разнородных фабульно-предметных элементов, которые лишь в далеком итоге образуют некую общность.
В самом деле, на первом плане лежит плоская фигурка балаганного клоуна — явный, почти буквальный парафраз блоковской пьесы, где «Пьеро… беспомощно лежит на пустой сцене в белом балахоне с красными пуговицами». В картине Шагала все это точно повторено, за исключением разве что красных пуговиц. Но здесь Пьеро держит в руках красный светильник (это керосиновая лампа из нищего витебского обихода!), который освещает действие. Оно происходит ночью в ближней к зрителю половине композиции. А ее фоновая часть освещена желтеющими отблесками заката, которые достигают первого плана, смешиваясь с тусклыми лучами, идущими от керосинового светильника. И уже эти сложные смешения искусственного и естественного света создают особую зрелищную среду картины, где сплелись явь и видение, игра и реальность. Ведь мотив игры, начатый фигуркой Пьеро, развит в персонажах акробата, выделывающего трюки на перекладине, и некоего шута с раскрытым зонтиком, а также а весьма выразительной детали — круглом театре-балаганчике на дальнем плане. К чему бы этот театрик? А к тому, что сплетение разнородного продолжается. Ведь в центре-то изображена горестная процессия, движущаяся за гробом. Жизнь и смерть условны, говорит эта картина, границы между ними смутны, печаль и радость, высокое и низкое соседствуют… .
В «Деревенской ярмарке» обычная последовательность повествовательной идеи явно оттеснена ощущением странности и даже некоторой необъяснимости происходящего. Подспудный, глухо звучащий смысл изображенного заключен в попытках понять какой-то глубоко скрытый, но принадлежащий к высшему порядку закон жизни. Художник не делает никаких выводов, но, скорее, дает понять, что он находится во власти не понятных ему самому, но могучих и действенных сил.
Во многих картинах Шагала петербургского периода люди неизвестно куда идут, их объединение случайно, в чем-то нелепо и даже фантастично. Жизнь памяти — вот что оказывается подлинной натурой для автора, и это, конечно, новая черта поэтики для русского искусства начала XX века. С особой явственностью она проступает в такой принципиальной для художника работе, как «Покойник», 1908 года.
Покойник. 1908 год.
В этой картине, так же как и в «Деревенской ярмарке», совмещаются два источника освещения: зелено-желтые краски рассвета и мерцающее пламя огромных свечей, окружающих тело мертвеца. Оно лежит прямо на мостовой. Такой прием создает остроусловную ситуацию. Улица деревни или городского предместья пустынна, никаких приготовлений к ритуалу не видно. Но еще резче поражает зрителя то странное обстоятельство, что покойник, которого провожают в последний путь одни свечи, не положен в гроб, а лежит прямо на земле. Почему? Что это значит? Сам Шагал дал ключ к этой загадке, сказав в одном интервью, что, стремясь в равной мере избежать и унылого натурализма, и претенциозной аллегоричности, он обратился к стилистике древнерусской иконы. Речь идет не о простом подражании, а о типе мировосприятия и художественной трактовки жизни. Человек и мир сопоставляются в картине очень широко. Интуиция подсказала Шагалу идею вынести действие в открытое пространство, как это всегда делали иконописцы, которые, как разъясняет наука о древних формах художественного сознания, видят «все события в большом масштабе, как бы панорамным зрением. Охват живописцем пространства так велик, что изображать интерьеры было, конечно, невозможно». Именно такое свойство проступает в «Покойнике» Шагала, а с годами становится присуще его живописи вообще. Впрочем, уже в 10-х годах у большинства картин мастера локальная конкретность места действия вообще исчезает, изображение оказывается как бы в своем собственном пространстве.
Несколько произведений петербургского периода представляют собой особое жанровое ответвление в творчестве мастера — повествовательные картины-притчи.
Рождение. 1910 год
Наиболее примечательно среди них «Рождение» 1910 года. Сама тема рождения, таинственной границы между небытием и реальным существованием, очень популярна в русском символизме начала XX века. До Шагала наверняка доходили споры и суждения на этот счет, несомненно, он видел (хотя бы в виде репродукций «Золотого руна») картины на такой сюжет лидера «Голубой розы» Павла Кузнецова. Но витебский мастер в своем полотне оказывается в известной оппозиции ко всякого рода изысканным символическим туманностям. С одной стороны, он не опасается грубовато-житейскои прозаичности, с другой — поднимается до возвышенного драматизма и пророческих предчувствий.
«Рождение» построено по принципу двухчастного действия. Левая сторона содержит основную сцену рождения. Художник с откровенностью показывает бытовые детали — лохань с водой, измученное лицо роженицы. И вместе с тем это торжественное действо. Цветастый полог над жалкой деревянной кроватью выглядит как раздвинутый занавес, приоткрывший зрелище огромной значимости. Повивапьная бабка с младенцем на руках, стоящая прямо на кровати, воспринимается как провозвестница важнейших новостей, она гордо выпрямилась, отрешенно и строго смотрит вдаль, словно видит перед собой почтительно внимающую толпу. Появление человека на сеет тут не сводится к истокам какой-то отдельной судьбы, пусть это будет даже мистерия Христа, а предстает как акт великого жизнетворчества, совершенно преображающий обычную житейскую обстановку. Левая часть полотна написана напряженной живописью, основу которой составляют оттенки света, сверкающего в центральной части, глуховатого по бокам полога, загорающегося резкой красной вспышкой на тельце мальчика.
В правой части «Рождения» беспокойные, бегающие блики падающего из керосинового фонаря золотистого света сразу же определяют тревожную взволнованность действия. Оно создается толпой мужчин, врывающихся в дверь дома. Зачем они здесь? Что их так заинтересовало и встревожило? Почему между ними затесалась еще и корова? Быть может, это отголосок традиционного сюжета поклонения волхвов, которые направляются в хлев — место рождения Христа. Такая трактовка представляется вполне вероятной, но очевидно и другое: канонический христианский сюжет здесь разыгран в жанрово-местечковом исполнении. Критик Я. Тугендхольд писал, что Шагал «в маленьком провинциальном быту улавливает… некое великое бытие». К «Рождению» эти слова одного из первых биографов художника подходят в полной мере. Мастер из Витебска придавал своим романтическим мечтаниям и фантазиям все более всеобщий характер, наделяя композиции вселенскими масштабами, а впоследствии даже космизируя их.
«Рождение» может рассматриваться как итоговая работа 1907—1910 годов, то есть петербургского периода в истории творчества Шагала. Значение этого периода весьма велико и, пожалуй, недооценено в биографии мастера. Между тем в Париж он приехал уже зрелым художником Ему предстояло извлечь уроки из живописного опыта Европы, достигнуть совершенства выражения своих замыслов. Он этого добьется, сохраняя российское ядро Французский искусствовед Марсель Брион первым среди других заметил, что, приехав во Францию, Шагал и после 1910 года «продолжает живописать в духе и технике, которые ничего не должны Франции». Конечно, это сказано слишком размашисто (особенно насчет техники), но по существу верно: художественный мир живописца сложился преимущественно в России. Какой могучий рывок совершил он за недолгий срок пребывания в Петербурге в конце 900-х годов! Из роб кого провинциального дилетанта он стал сильным и своеобразным мастером, владеющим и академической техникой, и порядочной музейной эрудицией, и уже наметившейся личной манерой. Но главное, что он стал художником со своим кругом тем, характерными чертами и метафорическими приемами, наконец, вполне оригинальным изобразительным почерком. Иными словами, у него уже наметился свой художественно-философский мир.
Рождение. 1910 год.
Когда Шагал в конце лета 1910 года приехал в Париж, высший комплимент, который он нашел возможным высказать в адрес мировой столицы искусств, был невероятным и обескураживающим возгласом неисправимого провинциала:
«Париж, ты мой второй Витебск!»
Между тем, работая с невероятной динамичностью и яростной самоотдачей, Шагал стал Шагалом именно в эти парижские 10-е годы. И как живописец, и как своеобразный истолкователь современности, прошлого, законов жизни, ее проблем.
Впрочем, в узкошкольном смысле Париж ничего не прибавил к витебскому и петербургскому ученичеству художника. Какое-то время он посещал некоторые художественные студии и академию, но серьезных познаний оттуда не вынес. До поры до времени это порождало чувство неуверенности,, даже растерянности. Преодолеть его помог Шагалу критик Я. Тугендхольд, который жил тогда во Франции. «Никого не знал я в Париже, — вспоминал через два десятилетия мастер, — никто меня не знал. С вокзала спускаясь, смотрел я робко на крыши домов, на серый горизонт и думал о моей судьбе в этом городе. Хотел вернуться на 4-й день обратно домой. Мой Витебск, мои заборы… Но Тугендхольд взял в руки мои полотна. Что? В чем дело? Он начал, торопясь, звонить одному, другому, звать меня туда, сюда… Не раз допрашивал я его, как должен я работать, и я часто, признаюсь, хныкал (моя специальность) перед ним. Он утешал…»
Еще большим «утешением» и аргументом в пользу Парижа были для художника впечатления от музеев и выставок. Знакомство с Лувром «положило конец всем колебаниям». Немного позже произошло знакомство с произведениями современников — представителей парижской школы тех лет. Но если внимательно проследить эволюцию творчества Шагала в 1907—1910 и затем в 1910— 1914 годы, то станет совершенно ясно, что на глубинных своих уровнях оно жило и дышало той проблематикой и даже той системой выражения, которые были накрепко и пожизненно заложены в России. Правда, именно Париж обеспечил им небывалые ранее свободу и совершенство реализации. Уже в глубокой старости, вспоминая о своем первом парижском периоде, Шагал рассказывал, как воспринимал он тогда встречи с французским искусством нового времени: «Я мог вообразить все это в моем далеком городе, в кругу моих друзей. Но я, видя собственными глазами то, о чем только говорил вдалеке, всасывал в себя впечатления: эта революция взгляда, это вращение цветов, которые спонтанно и осознанно погружаются один в другой в потоке обдуманных линий, как этого хотел Сезанн, и свободно доминирующих, как указывал Матисс. Этого я не мог видеть в моем городе… Пейзажи, образы Сезанна, Сера, Ренуара, Ван Гога, фовизм Матисса и многое иное меня ошеломили. Они привлекли меня как природный феномен». Все это полностью соответствует действительности. «Революция взгляда» в Париже у Шагала, бесспорно, произошла после того, как он «проник в сердце французской живописи 1910 года». Но эта «революция» была подготовлена в России и, собственно, там началась. А главное и решающее то, что российский круг тем, наметившаяся на родине (и связанная с ее жизнью) художественно-философская проблематика остались у мастера неизменными и во французской столице. Влечение к загадкам бытия, поражающее своей органичностью свободное движение от повседневной прозы к чему-то тайному, неочевидному, высшему не только сохранились, но стали обретать несравнимо большую выразительность, чем раньше (при этом сохранялась российская фактура сюжетов — качество, абсолютно неизменное у Шагала). Новая, напряженная до ослепляющего накала экспрессия достигалась теперь благодаря особой живописной субстанции — это амальгама многих разноликих впечатлений, преобразованных во вполне оригинальный и принадлежащий логике русской художественной культуры стиль.
Суббота. 1910 год
Вот «Суббота» 1910 года — очевидно, первая из парижских сюжетных композиций. Характерный витебский интерьер — такой встречался и в «Маленькой комнате» 1908 года, и в некоторых других картинах петербургских лет. Но его изображение обрело здесь неслыханную ранее динамичность, сложность пространства, концентрацию эмоциональных оттенков. Достигается это преимущественно благодаря огромной выразительности колорита. Стена комнаты кажется вибрирующей — колышутся и играют сложно сплетенные оттенки зеленого, желтого, красного, фиолетового, положенные с такой стихийностью и инстинктивной непосредственностью, какие появятся в западной живописи разве что через несколько десятилетий. Золотистый круг света в центре картины — это, конечно, не столько отблеск тусклой керосиновой лампы, висящей над столом, сколько вплавленное в картину фантастическое ночное солнцё. Красные тона на полу и по углам, зеленые плоскости в левой части комнаты, загадочная чернота усыпанного звездами неба за окном — все это как бы отдельные мелодические линии общей музыкальной композиции цвета.
Ни у кого из западных современников мастера вы не встретите такого внутреннего напряжения цвета, такого удивительного сочетания тревоги и радости, душевного беспокойства и пламенеющего восторга. Казалось бы, обычная жанровая сценка субботнего отдыха семьи. Но в каком странном оцепенении пребывают все шесть изображенных персонажей, как прижала их к стульям, изогнула их тела некая тайная, непонятная сила! Словно бы они видят не только то, что маячит перед ними — обычную, тусклую, недвижную жизнь жалкого местечка, но переживают некое потрясение, предвестие чуда: не его ли провозгласит герой, торжественно входящий р дверь? Не к нему ли спешит время, которое настолько яростно мчится, что покривило висящие на стене часы?
Так складывалась новая изобразительно-экспрессивная система искусства Шагала. Очень показательно, что в первый же год пребывания в Париже он повторяет некоторые уже ранее воплощенные сюжеты. В этом есть явная программность — так происходит живое переосмысление сложившегося ранее мира идей и образов художника.
Свадьба. 1910 год
Например, парижская «Свадьба» 1910 года варьирует одноименную картину петербургских лет. Новый вариант изображает шествие, движущееся по тем же, что и раньше, витебским улицам. Но теперь это не внешне достоверная сцена, а открыто условное зрелище, сведенные воедино детали воспоминаний, которые могут представать в любых соединениях и с какими угодно отклонениями от реальности. Коробки домов более всего напоминают театральные декорации, дорога — это не пыльный тракт, а сочетание широких цветных полос. Никакого сюжетного смысла в этом нет. Процессия движется в воображаемом, сказочном краю, который лишь призрачно напоминает родной художнику город. Он преображен в картине, которая включает элементы чудесного и невероятного. Лица могут быть зелеными и синими — так привиделось, так вспомнилось. В проеме зеленого дома, замыкающего сценическую площадку, видна фигура без головы — это своего рода знак «возможности невозможного». Подобных деталей в полотне множество. Но все же общий облик сцены сохраняет видимость обычного шествия, причем жених и невеста помещены, как положено в таких случаях, точно в центре. Шествие движется в никуда, навстречу счастью, чуду, волшебству. А вместе с тем спокойно можно предположить, что они направляются в такой-то дом, где их ждут родные, пиршество и брачная постель.
Подобную двузначность художник проносит через разные повороты своих стилистических и образных исканий. В частности, те, которые связаны с экспериментами в духе кубизма. Они относятся к тому периоду, когда Шагал поселился в колонии художников «Ля рюш» («Улей») на улице Данциг, в квартале Вожирар, близ боен. В двенадцатиугольном деревянном здании этого художественного «Вавилона № 2» (как его звал А. В. Луначарский) разместилось 140 келий-мастерских. В них прошла молодость многих впоследствии знаменитых художников, в их числе Фернана Леже, Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Александра Архипенко и других.
Шагал жил в мансарде «Ля рюш». И кажется, никто не мог сравниться с ним в феноменальной работоспособности — за несколько лет пребывания здесь (1911 —1914) он написал сотни полотен, а сделанных им в эти годы рисунков просто не сосчитать.
В Париже 1910-х годов кубизм получил бурное и мощное развитие. Основатели этого направления стремились увидеть мир в его первоосновах, зрительно выражаемых при помощи геометризованных формул, которые не столько проистекают из вида и внутренних качеств натуры, сколько подчиняют ее своим схематическим построениям.
Кубистический натюрморт. 1912 год.
Шагал на протяжении известного периода использует некоторые кубистические приемы, переиначивая их на свой лад, явно связанный с российскими традициями. Характерен в этом смысле «Кубистический натюрморт» 1912 года. Первое впечатление от этого полотна хочется назвать «устойчивой неустойчивостью». Словно бы над этой колышащейся и коробящейся темно-синей плоскостью, на которой расставлены предметы, действуют некие силы, сотрясающие эту поверхность. Замечательным ее качеством является то, что она, будучи вроде бы какой-то прозаической подставкой предметов, вместе с тем безгранична и не имеет ясной житейской оправданности. Это может быть скатерть, стол, прилавок и., космос с его холодной, густой синевой. Действие происходит то ли а интерьере, то ли нигде, в мировом эфире. Напоенное синевой пространство гудит ночной музыкой и несется к неведомой цели. Все предметы абсолютно узнаваемы, но это «знакомые незнакомцы», ибо они остранены, вырваны из цепи обычных соотношений. Блюдо с фруктами показано сверху. Другие предметы слегка скошены и деформированы, и в силу таких приемов они не только включаются в кубизированную схему, но и становятся загадочными персонажами некоего живописного спектакля.
Словом, мир в этой картине увиден новым взглядом, он предстает странным, «закутанным в цветной туман», если использовать образ стихотворения Блока. Законченное единство внутреннего и внешнего тут очевидно, его создает кубистическое обобщение натуры. Но кубизация вовсе не выпирает наружу как нарочитая формальная догма. Ведь здесь нет и малейшего признака сухого логизирования и рационализма. Натюрморт полон живой крови, света, красок, смешанного чувства душевной тревоги и восторженного обожания жизни. Французская живописная культура смешалась в картине с привезенным художником из России ощущением декоративной стихии, сказавшейся не только в характерных народно-русских веточках на чашке, но прежде всего в открытой, веселой простоте живописи, в чувственной избыточности мироощущения, которая размывает строгие берега галльского рационализма. Это бросалось в глаза уже на тех выставках в Париже, где кубизированные полотна Шагала висели рядом с произведениями французских мастеров новейших направлений. Вот убеждающее свидетельство Я. Тугендхольда: «Помню впечатление, произведенное ими (работами Шагала. — А. К.) в Осеннем Салоне среди «кубистических» полотен Лефоконье и Делоне… Тогда как от головоломных кирпичных построений французов веяло холодом интеллектуализма, логикой аналитической мысли, в картинах Шагала изумляла какая-то детская вдохновенность, нечто» подсознательное, инстинктивное, необузданно-красочное. Точно по ошибке рядом со взрослыми, слишком взрослыми произведениями попали произведения какого-то ребенка, подлинно свежие, «варварские» и фантастические».
Подмеченная критиком разница, разумеется, не столько «возрастная», сколько творческая. Несмотря на влияние рационалистической манеры кубизма, Шагал оставался романтическим поэтом и темпераментным рассказчиком, увлеченно повествующим о жизни и ее событиях, как это воспитала в нем российская традиция. И сам он резко ощущал свое отличие от кубистов: «Я глядел на них со стороны и думал: «Пусть они утоляют свой голод своими квадратными грушами на своих треугольных столах! Куда мы идем? Что это за эпоха, которая поет гимны технизированному искусству и обожествляет формализм?.. Не называйте меня фантазером. Напротив, я реалист. Я люблю землю».
Живя в Париже, Шагал постоянно обращался к мотивам России не только потому, что ему неизменно хотелось припомнить что-то дорогое и близкое душе. В ситуации немыслимого, бешеного творческого напряжения, ежедневного и ежечасного, ему было не до таких сентиментальностей. Просто русский материал легче и органичней позволял ему решать все возникающие перед ним проблемы. Работая во Франции, художник широко использовал опыт фовизма, кубизма и некоторых других новейших направлений искусства XX века; сам разработал образный строй, который поэт Гийом Аполлинер обозначил термином «surnaturel» («сверхреально»). Но художник никогда не сводил свои задачи к декоративной игре и самодовлеющему формотворчеству. Во всех его произведениях тех лет раскрываются огромные жизненные глубины. Причем какие бы трагические интонации ни звучали в его искусстве (особенно раннем), он не только всегда сохранял глубокую убежденность в том, что мир изначально прекрасен и добр по отношению к человеку, но и стремился противопоставлять драматическим событиям эпохи поэзию праздничности и красоты. Именно в этом заключена исходная российская основа творчества Шагала, хотя он вместе с тем стилистически откликался на многие веяния русского искусства — от символических построений «Голубой розы» до примитивизма М. Ларионова, Н. Гончаровой и других. Ощущение преображающегося, идущего к гармонии мира — метафора «главной важности века» — составляет самую суть русского начала в искусстве Шагала.
Очень часто говорят, что в своем искусстве Шагал нередко утверждает ирреальное и алогичное. Но это неточно. Гораздо ближе к истине утверждение, что художник опрокидывает банально-одномерное представление о реальном, расширяя его смысл и давая зримую форму подразумеваемому и неочевидному. Можно согласиться с определением Георга Шмидта, который заметил, что «чудесное не является в искусстве Марка Шагала какой-то добавочной частью. Напротив, это положительно его центр». Но надо всячески подчеркнуть, что шагаловское «чудесное» есть особый способ раскрытия и выражения скрытых, затаенных качеств конкретной действительности, окружающей нас повсеместно и повседневно. Это «чудесное» — глубинное понимание реального, выражаемое хотя и необычными средствами, но в конечном счете чрезвычайно просто (что и вызывает порой сравнение со сказкой, у которой именно такая структура).
Вот и картины 1911 года «Корова в комнате» и «Желтая комната». «Желтая комната» — очевидно, окончательный вариант сцены. По исходным очертаниям это обыкновенный интерьер. Дощатый пол, обеденный стол, несколько фигур вокруг. Повествовательная интонация самого рядового свойства.
Но потом начинаются странности. Пол скошен, стол увиден в перспективе сверху. У женщины за столом перевернута голова. В проеме двери прихотливой цилиндрической формы виднеется яростное солнце над деревней, вдалеке озаренной заревом пожара. Все это метафоры — целая цепь метафор! — потрясенного, открывающегося с необычных точек зрения мира. Причем потрясенность здесь, скорее, лихорадка открытия, чем трагичность. А такая деталь, как перевернутая голова (именно 1911 год принес в искусство Шагала этот символический мотив), — своего рода знак необычного и парадоксального.
И вот в этой ситуации решительного сдвига равноправная с человеком корова в комнате — самый поражающий и весомый аргумент в обосновании новой, «иной» системы взаимосвязей и ценностей жизни. Сквозь толщу веков, наперекор устоявшимся психологическим стереотипам субординации сущего художник прорывается к далеким, изначальным представлениям и понятиям, к библейскому ладу. Все предстает как древняя мифологическая данность. Недаром картина залита пронзительно-желтым астральным светом. Это исток, заря, первоначало, из которого может сложиться что угодно и как угодно.
В том же 1911 году Шагал создает композиции, где рамки земного круга раздвинуты и захватывают в свою орбиту космические пространства. Такова, в частности, картина «России, ослам и другим» (это несколько ироническое название принадлежит не художнику, а поэту Блезу Сандрару). В первоначальном эскизе полотна темный космос с каким-то загадочным небесным телом, звездой или метеором, был лишь фоном композиции; крестьянка с подойником лишь приподнималась над землей. Но в самой картине она летит над церковью, крышами в ночном небесном пространстве.
Этот взлет оказался вехой в истории не только творчества Шагала, но и всего искусства эпохи: оно завоевало новое измерение, почувствовало свою власть над новой стихией. Как нигде раньше, в этой картине тесно сплелось обыденное и невероятное. Основой композиции служит наипростейший сюжет: крестьянка, минуя строения маленького городка, направляется к корове, чтобы надоить молока. Но… корова стоит на крыше, один из ее детенышей имеет человеческий облик, а крестьянка летит по воздуху, причем ее голова отделена от туловища. Что уж там говорить про зеленый цвет тел, странные блики и зарево в небесах, игрушечные формы строений!
Однако «в его безумии есть своя логика», говорится о Гамлете в одноименной трагедии. Или, если вспомнить поэму Элюара о Шагале, у художника всегда есть свои «правила чуда». Эти правила заключаются прежде всего в нерушимости основных элементов жизни. Они могут взаимозаменяться, вступать в неожиданные отношения, представать в необычном свете, но сохраняются во всей своей природной ценности. Пусть мир меняется на глазах, но он не теряет внутренней логики, а лишь обретает новую. И охватывает этой логикой всю Вселенную. Включая космос. Его завоевание оказалось у Шагала одним из видов возвращения к мифологическим началам, которые с неслыханной дерзостью приобщаются им к современности. Художник делает это по законам народно-поэтического мышления, которое рассматривает мир как единое, чувственно осязаемое, на глазах изменяющееся целое. Это и есть шагаловские «правила чуда», в силу которых его образное пространство оказывается частью всеобщего и необъятного. Так возрождается утраченная художниками прошлых веков связь искусства с космосом. Заметим, что нечто похожее происходит и в поэтическом мире Велемира Хлебникова (который и именовал-то себя Председателем Земного Шара), и у Маяковского, многократно вступающего в бурные собеседования с небесными стихиями.
«Эй, вы! Небо!
Снимите шляпу!
Глухо.
Вселенная спит
Положив на лапу
С клещами звезд огромное ухо».
Словом, космизм — характерная черта не только Шагала, но и всей русской художественно-поэтической культуры начала XX века. Космизированные образы встречаются и во французской поэзии тех же лет, в частности у парижских знакомцев художника Аполлинера и Сандрара. Марк Шагал оказывается в системе такого вот «вселенского» образного мышления. Оно вобрало в себя характерные для XX столетия черты тотального антропоцентризма, связанные с предчувствием всеобщих перемен в жизни, особенно резким и острым в России с ее стремительной общественной динамикой.
Одна из особенностей шагаловского космизма заключена в том, что он обращен не только вовне, но вовнутрь, на обычные земные параметры. Художник очеловечивает космос и одновременно космизирует человеческое существование. Его картины людской жизни сплошь и рядом обретают такой вид, будто бы они увидены с далекой точки зрения, с небесных высот и обретают новые, необычные черты, которые формируются в законченный мир, имеющий свой космос, свою галактику.
Конечно, и в этих изображениях «земного космоса» встречаются бесконечные оттенки сдвинутости обычного, внешняя странность и парадоксальность образов, их чрезвычайная многослойность, поистине тут в самом прямом, техническом смысле слова «образ входит в образ» и «предмет сечет предмет», как писал Б. Пастернак. Но всякий раз полотна такого рода имеют свою четкую пластическую основу, свой строгий принцип сюжетного повествования. Словом, это организованный художественный космос.
Я и деревня. 1911 год.
Классическим примером этого может служить знаменитая картина 1911 года «Я и деревня», которая по праву считается своего рода энциклопедией шагаловского искусства. В отличие от полотен, где есть зоны небесной и земной сферы, «Я и деревня» — суть «мир в себе», соединение макро- и микрокосмов. Для этого целостного зрелища мастер разработал свою систему пластической формы. Она, однако, не только форма, но своего рода духовный закон, выражение высшей логики. Вспоминаются слова Шагала, сказанные им в беседе с Андре Верде: «То, что рождается стихийно, ищет свой порядок конструкции в архитектуре моих полотен».
«Архитектура» картины «Я и деревня» состоит из комплекса сопряженных между собой фрагментов, чья космизированность совершенно очевидна. В центре композиции помещен служащий ее основой и опорой диск, наподобие солнечного. Такой же диск, только в виде сегментов, повторяется в форме головы коровы на втором плане, у самого края полотна. Да и все оно кажется медленно вращающимся кругом. Внутри него калейдоскопическими кадрами расположились детали, своего рода осколки зрелища жизни. Они выглядят как «спутники» основного круга. Все ведущие цветовые мотивы композиции взяты в ясном соподчинении интенсивному красному цвету части центрального круга, оставляющему ядро композиции и изначальную основу изображенного космоса. Такова в основной схеме общая формальная конструкция, планетарная «архитектура» картины. В ней кажущаяся хаотичность на самом деле предствляет собой особую форму организации, не похожую на обычную, но тем не менее подчиняющуюся своей твердой и неукоснительной внутренней дисциплине.
То же можно сказать и о сюжетно-повествовательном развитии в этом полотне. Оно сплетает обыденное и фантастическое. В нем равноправны настоящее и прошлое, далекое и близкое. Разные оттенки воспоминаний, представлений, образов то соседствуют друг с другом, не вступая ни в какие непосредственные связи, то ясно смыкаются. Но не как части единого жизнеподобного целого, а как одновременно всплывающие в сознании фрагменты жизни, размышлений, мечтаний.
Итак, картина чрезвычайно многозначна. Но удивительно не то, что совместно существуют столь различные образы, а полная естественность целого. Итоговая простота не должна вводить в заблуждение, к обычной сказке такую композицию не приравняешь. Если это и сказка, то подлинно современная. Она не уходит от всех сложностей действительного мира в нарочито-игровое упрощение, а находит для великого множества аспектов новую простоту художественного изложения. Разница огромная. И диапазон возможностей у нее колоссален. В этом можно убедиться на примере таких шедевров 1911—1914 годов, как «Солдат пьет», «Святой возница», «В честь Аполлинера», «Летящая повозка», «Адам и Ева», «Поэт. Три с половиной часа», «Голгофа». Все эти произведения чрезвычайно характерны для мировосприятия мастера. Он изображает встревоженный, неустойчивый, словно сдвинутый с оси мир, но в глубинах его напряженных, лихорадочных переживаний таится могучее ощущение красоты и плодоносной силы жизни.
Летящая телега. 1913 год.
Этюд к картине «Дождь» 1914 год.
Вот «Голгофа». Как и в других близких по времени исполнения полотнах житийно-философского свойства, Шагал делает фоном сюжетного изображения весь мир, даже Вселенную — в зелено-желтой туманности второго плана вращаются планеты, дышит холодный и безбрежный космос. Красные и вишневые плоскости переднего плана, слегка кубизированные, в сущности, продолжают эту мощно обобщенную космическую структурность, но в них есть теплота земных красок.
В сцене распятия отринута всякая каноничность. Христос сделан «голубым ребенком в небесах», по выражению самого художника. Это решительное отступление от евангельского сюжета меняет весь смысл сцены. Показано не сознательное самопожертвование во имя спасения человечества, но безвинное страдание обреченного существа. Эта трактовка исходит из размышлений Шагала о судьбе художника в современном мире. Недаром же мастер говорил, что для него «Христос — поэт, один из самых великих и невероятных поэтов, безрассудно взявших на себя страдальческую долю». Страдание изображенного «голубого ребенка» вполне соответствовало такому толкованию. В картине немало и иных мотивов. Их совокупность образует два плана. Конечно, это прежде всего трагическая сцена, обращенная к темам смерти и страдания. Но вместе с тем в картине захватывает яростное клокотание жизнетворящих сил, буквально сотрясающих изображение, накаляющих до предела его полыхающие краски, грохочущих могучими тектоническими сдвигами. В мире много страшного и беспощадного, угнетающего и терзающего душу, но хотя бы уже своей вечной динамикой природных форм и красок, неисчерпаемым духовным богатством людей он прекрасен. Такова философия картины, ее высокий катарсис.
Автопортрет с семью пальцами. 1912-1913 годы.
В некоторых картинах Шагала парижских лет («Автопортрет с семью пальцами», «Париж из моего окна» — обе 1913) множественность точек зрения вызывает в памяти цветовые приемы лубка, ковра, крестьянской вышивки, но на итоговом уровне эта много-цветность гармонизируется музыкальным соответствием красочных тонов, их последовательностью, мелодичностью. Русское происхождение этих цветопласти-ческих приемов мастера очевидно. И не только из-за их своеобразной близости к народным традициям (вспомним подобные же тенденции у участников «Бубнового валета» М. Ларионова, Н. Гончаровой), но еще и в силу нерушимой предметной основы. Всю свою богатейшую стихию цвета Шагал всегда связывает с конкретными объектами; любая колористическая ассоциация связана у художника с предметами и раскрывается через них. Сходные принципы можно проследить у русских современников мастера — Кончаловского, Лентулова, Фалька, Сарьяна, Кузнецова (беспредметные искания в России начались тогда, когда Шагал уже жил в Париже). Да и вообще художник во французской столице ни на миг не расставался со своей родиной. Подавляющее большинство его произведений 1910—1914 годов имеет русские сюжеты (решенные в духе «реал-фантастики», как сказал А. В. Луначарский), живет идеями и образами России. «Приобщившись к этой уникальной технической революции искусства во Франции, — вспоминал Шагал в старости, — я, однако, возвращался в мыслях к моей собственной стране. Я жил спиной к тому, что находилось передо мной».
Шагал отправился в Париж ищущим неофитом, а вернулся в Россию (лето 1914 года) зрелым мастером. Но он приехал сюда не залетным чужеземцем, а как художник, убежденно и последовательно растивший в душе все те образы и темы, которые были подсказаны ему жизнью и традициями Родины.
Находясь во Франции, Шагал изображал свой Витебск как романтическое воспоминание, конечно, сохранявшее многие конкретные реалии своего быта, но решительно отличавшееся от «оригинала». В сущности, парижские «витебски» — это метафоры, где родной город узнаваем, но живет такой особой жизнью, словно бы он привиделся во сне и все знакомое, привычное растворилось в сложных узорах полночной фантазии.
А возвратясь домой, художник изображает прежде всего реальные ситуации, натуральную обстановку, всамделишных витебчан. На первый взгляд может даже показаться, что он вообще открестился от всех своих чудачеств, фантастики, сложной и странной образности.
Разумеется, это обманчивое впечатление. Все вернется, и довольно скоро. Но какой-то срок Шагал после парижского потрясенного восприятия мира с несомненным Удивлением и спокойно-созерцательным вниманием всматривается в мирно текущую, полудремотную витебскую жизнь, Впрочем, художник видит в ней нечто родственное и привлекательное, передавая это не только сюжетными оттенками, тихой мелодией устоявшейся и по-своему доброй повседневности, но и характером живописи, ее умиротворенно-прозрачными тонами. Таковы многие работы 1914 года. Например, «Дом в местечке Лиозно». Шагал ничуть не приукрашивает убогую местечковую панораму — покривился двухэтажный кирпично-деревянный домишко, унизанный вывесками торговцев, скучают у открытых входов обитатели, серое небо нависло над этой недвижной, словно навсегда замершей жизнью. Но автор ничуть не отдаляет себя от нее, чужд насмешке, словно растворяется в этом привычном, взрастившем его быту.
Еще острее и проникновенней подобные интонации звучат в «Парикмахерской», которая кажется прямым продолжением «Дома в местечке Лиозно». Словно бы художник пригласил зрителеи последовать за ним в одну из дверей, над которыми красуются вывески. «Парикмахерская Шагала», естественно, такая же жалкая, как весь облик местечка. Обстановка грошовая, объявление на стене («абонены платят вперед») нелепо и безграмотно, да и сам владелец этого неказистого заведения, дядя Зуся, худой и изможденный, угрюмо поджидающий клиентов, — «маленький человек» с убогой и бесталанной судьбой. Но еще Тугендхольд очень тонко заметил в картине «покорную, смиренную любовь». Он писал, что этот интерьер — «один из лучших… виденных мной на выставках последних лет.., провинциальная парикмахерская, проникнутая кротким солнцем, пыльным воздухом и жалкой улыбкой дешевых обоев».
Именно так. «Смиренная любовь» даже утишила на какое-то время мятежно-лихорадочное клокотание страстей и дерзкий замах на мировую проблематику у недавнего обитателя «Ля рюш». «Россия, нищая Россия»… «Мой Витебск, мои заборы»… Эти мысли и чувства нахлынули, заставив забыть все остальное, в том числе и формальные новации типа кубистических. Картина написана в очевидных традициях русского повествовательного жанра рубежа XIX— XX веков. Но конечно, есть тут и отличительно шагаловские качества — слегка бормочущая сбивчивость, неровность изображения (которую при желании можно считать отголоском «примитивизма» или доверчивой «детскости», но уж слишком возвышается над ними живой, искрящийся артистизм) и дивная его просветленность. Как добивается мастер этой напоенности светом каждой частицы композиции — трудно сказать. Уроки пленэризма В. Серова, К. Коровина, импрессионизма использованы в картине свободно и всесторонне. Но именно в этом тихом, льющемся свете запечатлелись и любовь, и печаль, и нескрываемая растроганность автора, ощущающего себя сейчас блудным сыном, который вернулся после долгих странствий и припадает к коленам своих стариков…
Аптека в Витебске. 1914 год.
Аптека в Витебске. 1910 год.
Настроения такого рода развиты и продолжены в цикле пейзажей, причем живописная манера нового витебского периода наиболее законченно выражена именно в них. Вот характернейшие — «Вид из окна. Витебск», «Аптека в Витебске» (оба 1914 года). Если вспомнить совсем недавние лихорадочно-взбудораженные, полные удивительных перевертышей парижские композиции (ну хотя бы «Париж из моего окна»), то различие покажется просто неправдоподобным. Как успокоился взгляд, какой тихий елей пролился на беспокойную, мятежную душу! В «Виде из окна» открывается сравнительно далекая, но безмятежная перспектива — наборы, палисадник с курами и теленком, дома, церкви… Застыли небеса, ничто не шелохнется, ландшафт кажется замершим на века. Так же и «Аптека в Витебске» — спокойный, умиротворенный взгляд неспешно разглядывает эту тихую, зеленую улицу, петляющую между деревянными домами, заборами и деревьями. Хотя дорога теряется в глубине пейзажа, чувства влекущей дали не возникает: все начинается и кончается здесь, в этом малом, замкнутом провинциальном мире.
В чем же тогда — кроме настроения — состоит особый шагаловский оттенок, который так отличает эти холсты от бесчисленных изображений дремотной и нелепой русской провинции? Секрет таится исключительно в живописи. Мастер так насытил светоносностью всю тональность картины, все переходы ее зеленых, синих, коричневых цветов, что унылая заурядность недвижно сонного витебского вида преображается в поэтический образ. Любопытно, что хотя живопись этого полотна со всех точек зрения можно назвать пленэристской, импрессионистическая техника раздельного мазка тут не употребляется. Краски смешиваются в сложных и динамичных пропорциях, так что основной тон беспрерывно меняет свою интенсивность, напряжение, характер звучания. Пианисты назвали бы такие изменения палитры «мелкой техникой», имея в виду отделку малейших переходов в пассажах этой технике Шагал просто бесподобен, причем он никогда не сбивается ни на иллюстративность, ни на орнаментальную стилизацию. Движение мазка у него следует за движением чувства, они всегда слитны, и это служит живой и прочной основой поэтической выразительности картин. Воплощенные ими настроения душевной умиротворенности, покоя, просветления (в прямом и переносном смысле слова) обладают, благодаря такой сложномузыкальной магии живописи, замечательным богатством выражения. ‘
Пожалуй, можно сказать, что вот именно в этих полотнах витебского периода особенно четко проявляется основа личного живописного стиля Шагала. Из-за огромного множества наслоений в парижских экспериментах эта основа заслонялась, стушевывалась, выступала в чужом обличье — фовизма, кубизма и т. д. Но в Витебске, никому не подражая, он словно исповедался самому себе в своих живописных предпочтениях. «Сотри случайные черты», как говорил Блок… Конечно, Шагал прибегал и будет прибегать в дальнейшем к множеству условных приемов, порой чрезвычайно эксцентричных и неожиданных. Однако основой его живописной речи, как она сложилась к середине 10-х годов, является впечатление от живой натуры. Художник мгновенно находит для него декоративно-цветовой эквивалент, достаточно точный, чтобы реальная модель изображения незатрудненно узнавалась, и вместе с тем абсолютно свободный, более всего тяготеющий к музыкально-ассоциативным началам.
Эта система вобрала в себя очень много составных элементов — от иконописи, русских народных картинок, городского фольклора вывесок до множества приемов и находок новейшего французского искусства. Но в ее глубинной основе лежит эстетика русской живописи начала XX века в диапазоне от Левитана и Врубеля до Валентина Серова и Добужинского. Именно эта живопись составляет родовой исток искусства Шагала, который навсегда сохранит свое исходное, первородное значение.
Примечательно, что в начале витебского периода, во второй половине 1914 года, Шагал выполняет множество автопортретов. Это не просто самоизображения. Мастер вообще сравнительно редко обращался к портретному жанру — в молодости он иногда писал и рисовал своих родных и близких, позже конкретные современники почти полностью исчезают из его произведений.
Но самого себя Шагал будет изображать в тысячах вариантов, по любому поводу, придавая свои черты и лирическим героям, и персонажам самых разнообразных сюжетов, включая фантастические. Художник использовал собственные черты как символико-схематическую формулу, которая, однако, всякий раз изменялась в зависимости от изображенных обстоятельств, настроений, образных оттенков. Так появляется (наряду с прочим) в творчестве Шагала возрожденная им фольклорная традиция бесконечно варьируемых соединений типологических и индивидуальных начал, постоянной маски и живого лика.
Именно в 1914 и в последующие годы Шагал в автопортретах стремится через себя, через мимику и пластику своего лица, своей фигуры, их соотношений с окружающей обстановкой, наконец, через ритмические и красочные особенности композиций осознать, утвердить свое мироощущение и понимание роли художника в жизни, его призвания и назначения.
Пожалуй, самый значительный и глубокий в этом ряду автопортретов тот, который был подарен когда-то его другу писателю Илье Эренбургу. В чисто композиционном плане мастер прибегает здесь к неожиданному и остроумному приему. Он изобразил себя стоящим у белой плоскости холста, который, наверное, установлен на мольберте (его не видно) и имеет форму усеченного прямоугольника — куска коричневой стены. Такое сопоставление делает пространство одновременно и конкретным и условным: ведь стена — чистая кулиса, ни с каким интерьером не соединена и воспринимается как знак, как часть чего-то бесконечного и всеобщего. Есть и еще один, более глубокий смысл живописной формы: мастер нарочито не загрунтовал большую часть полотна, так что вязь его нитей проступает и в фигуре живописца, и в той бело-голубой плоскости, рядом с которой он находится. Что же тогда реально и что изображено? Все смешалось и слилось, происходит как бы игра зеркал.
Мастер одет в странный голубой наряд с кружевными оборками. Что вспоминается? Да конечно же, те изображения шутов-акробатов, которые Шагал часто делал в это время (и позже). Сочетание мудреца и шута, печального романтика и саркастического насмешника, внимательного наблюдателя натуры и дерзкого выдумщика, способного на любую эксцентричность, — таково содержание автопортрета, служащего и автохарактеристикой творчества.
Подлинным взрывом драматизма представляется весь обширный военный цикл рисунков и картин Шагала, также относящийся ко второй половине 1914 года. Печать «холодного ужаса» (как писал Блок) лежит на всех произведениях мастера, связанных с военной темой. Рисунок, изображающий витебского продавца газет (он прижимает к груди листок, на котором огромные буквы просто кричат: ВОЙНА), построен на острейшей деформации. Черты худого лица старика-газетчика смещены — запечатленные рвущимися, отталкивающимися линиями, они полны тревоги и тяжких предчувствий. Этот рисунок, очевидно, был портретным эскизом к картине с таким же названием («Продавец газет»). Фигура газетчика, разносящего вести о войне, вписана в вечерний витебский пейзаж, драматически-экспрессивный. Темная мостовая, по обочинам которой сутуло громоздятся дома и собор, буквально врезается в багровое небо горизонта. Этот открытый цветовой контраст усугубляет тревожное настроение центрального персонажа, придает всей композиции трагическую масштабность.
Особой резкости и жесткости это ощущение «холодного ужаса» войны достигает в серии рисунков 1914 года тушью и пером. «Раненый солдат», пожалуй, самый экспрессивный в их ряду. Оставленные белыми бинты на голове солдата, его глазницы (одна из них мертвенно-пуста), складывающиеся в кривую, злобную улыбку зубы выступают из черной массы основной части рисунка чрезвычайно остро, как молнии из тучи. Так выражено отношение к войне, ее мраку, ужасу, бессмыслице. Как не вспомнить в этой связи почти одновременно написанные строки Владимира Маяковского:
«Никто не просил,
чтоб была победа
родине начертана.
Безрукому огрызку кровавого обеда
на черта она?!»…
Эта «черная» серия военных рисунков с их колючей жесткостью заметно выпадает из общего эмоционального строя произведений Шагала во второй половине 1914 года. В нескольких живописных произведениях на ту же тему его взгляд становится мягче. Критика это заметила и оценила. «Военные» произвдения Шагала, — писал Я. Тугендхольд, — могут не нравиться, но ценно то, что там, где другие художники славословят железные и деревянные красоты, он чувствует лик человеческий. В наши дни… особенно важно искусство, в котором есть любовь к миру и человеку, есть лирика».
Все это очень глубоко и прозорливо замечено. Великое и драгоценннейшее качество «чувствовать лик человеческий», испытывать «любовь к миру и человеку» — по сути дела, коронное и неизменное свойство произведений Шагала. Оно сохранится в его искусстве даже при труднейших поворотах истории и личной судьбы мастера.«Вселенское» чувство мира, впервые пробившееся в шагалое-ских произведениях петербургского периода и получившее высочайший взлет в его парижскую пору 1910—1914 годов, не оставило художника и по приезде в Витебск. Родные провинциальные впечатления оказались для него чем-то начальным и исходным в общем мировосприятии. И в витебском окружении Шагал вскоре увидел отзвуки и отблески мировых парадоксов, могучей власти преобразующих сил, которые — по его внутреннему чувству — должны сформировать новую мировую гармонию. Целая группа витебских картин образует ее высший ряд, полностью отходящий от спокойной повествовательности обычных наблюдений. К самым широким обобщениям и парадоксам он идет, отталкиваясь от простых и обычных деталей.
Казалось бы, что может быть более обыденного по сюжету, чем «Часы» 1914 года? Между тем это одна из картин, которые определили целую систему художественного мировоззрения не только в творчестве Шагала, но и в искусстве XX века.
Прежде всего здесь решительно смещены и поставлены в обратно пропорциональные соотношения привычные реалии жизни. Сидящая у темного ночного окна фигурка (несомненно автопортретная) кажется крохотной по сравнению с расположенными в центре композиции часами, занимающими всю пространственную вертикаль. Алогизм, мистика, как об этом не раз писали? Ничуть! Художник видит и утверждает в окружающей жизни новую логику, ждущую понимания и истолкования. В «Часах», так же как и во многих иных произведениях, Шагал передает свое глубочайшее убеждение, что мир сдвинулся со своей привычной оси, при этом вечные категории жизни, не заметные за монотонно установившимся ходом повседневного, вдруг как бы вырвались наружу и громогласно заявили о своей значительности и власти. Отсюда и смещение обычных взаимосвязей и пропорций. Обычная натурная деталь — фигурка у окна сопоставляется с материализованным символом Времени, его метафорой. Поэтому часы (как предмет) вовсе не угрожают размышляющему человеку, они просто существуют в ином, чем он, духовном пространстве.
Это очень примечательно. Шагал вовсе не изображает и тем более не культивирует чувство потерянности человека в этом мире обнаженных и пришедших в необычное движение стихийных первоначал. Скорее, художнику свойственны созерцательные рефлексии по этому поводу, которые посвящены даже не отысканию нового места людей в меняющейся на глазах действительности, сколько весьма своеобразному ощущению очеловеченности всех сил жизни. В «Часах» так воспринимается Время, а в «Зеркале» 1915 года мастер на подобный лад трактует Пространство. Заметим, что в начале века русскому художественному сознанию открылись своего рода перепады пространства, в котором происходят сломы и сдвиги, образование новых взаимоотношений реальности и воображения, выход в особые области непривычных духовных измерений. Можно вспомнить в этой связи «Зеркало» Н. Гончаровой (1912), «Натюрморт с зеркалом» К. Петрова-Водкина (1918), стихотворение «Зеркало» Б. Пастернака (1917).
Пространство в шагаловском зеркале — не только геометрический феномен, но и носитель своеобразных духовных качеств. Ведь виднеющаяся в глубинах зеркала покачивающаяся, окруженная лучами сияния керосиновая лампа — это не простое отражение находящегося на невидимой части стола предмета, но и его решительное, многозначное преображение. В зеркале показано вовсе не то, что оно должно было бы механически отразить по обычным правилам. Это, в сущности, и не зеркало, а окно в иной мир, где реально существующая обстановка решительно видоизменяется и получает новый облик, новое значение.
Ключ к пониманию такой метаморфозы дает фигурка уснувшего за столом человека. Материальная грандиозность предметов, оказывающихся символическим воплощением времени и пространства, обозначает не их имманентное качество, а метафоры людского воображения. В «Часах» человек самозабвенно размышляет, в «Зеркале» — спит, все остальное, что представлено в картинах, — плод их романтических видений. Художественная фантазия мастера все чаще начинает строить сказочно-отстраненные и переиначенные проекции реального. Жизненная конкретность получает в них метафорическое образное развитие, зачастую неожиданное и грандиозное по своей масштабности.
На таком необычном перекрестке полнейшей натуральности изображения и неожиданных порывов фантазии находится группа классических картин витебского цикла. Было бы обоснованно поставить в самом ее начале композицию «Над Витебском». Основную часть изображения занимает в ней подробнейше выписанный витебский пейзаж с видом заснеженной улицы и Ильинским собором справа. И вот на фоне такого буднично-прозаического ландшафта появляется удивительная фигура старика с дорожной клюкой в руке и с мешком за плечами, который взлетает над всеми этими провинциальными заборчиками и домишками.
Летящие по воздуху люди и животные встречались у мастера и раньше, в нескольких картинах парижского периода (вроде «России, ослам и другим»). Но там это были какие-то осколки лихорадочного сознания, расположенные в неопределенном пространстве без верха и низа. Здесь же все окружение спокойно и упорядоченно, и именно поэтому фигура, отрываясь от вполне реальной почвы, кажется вздымающейся, начинающей далекий полет. Что означает эта фигура взлетающего ввысь бородача с задумчивым, печальным лицом, как бы побеждающего рутину привычно и лениво текущих будней? Должно быть, это материализованное желание каким-то чудом преодолеть глухую тоску неустроенной жизни. Оно порождает чувство непреодолимого движения к цели, которое противоречит логике обычного и побеждает ее.
В двух других картинах витебского цикла — «Красном еврее» и «Зеленом еврее» (1914) — изображен один и тот же человек: некий «проповедник из Слуцка», встреченный художником на улице. В «Красном еврее» он преображен во всемогущего мудреца, пророка и окружает его не провинциальное захолустье, но безграничный мир его мыслей. Текущую на глазах жизнь он соединяет с библейскими преданиями,слова которых возникают на втором плане как сокровенные тексты на скрижалях.
Конечно же, это произведение символического строя. Но не потому лишь, что художник прибегает в нем к отдельным знакомым деталям (чернильница — атрибут проповеднических писаний, цветущее на голом месте деревце — намек на некие легенды, скажем на расцветший посох Аарона и т. д.). Символично все изобразительное действие картины. Духовное могущество внутреннего мира этого человека побеждает и преобразует его тщедушную плотскую оболочку — это сказывается и в титанических пропорциях фигуры, и в резких изломах лица, как бы сокрушаемого напором мысли, и в поражающей интенсивности цвета бороды проповедника, которая течет как вулканическая лава, как грохочущий поток.
В «Зеленом еврее» сходная концепция обретает пронзительно-спиритуалистический характер. Сочетание жанровой характерности облика с демонстративной «непохожестью» на реальную натуру (зеленое лицо, зеленая борода) имеет свой существенный смысл. Художник программно утверждает, что все показанное в картине должно быть ясно узнаваемым, но наряду с этим именно через зримую форму можно раскрыть невыраженную во внешнем потаенную суть. Проповедник, каким его изобразил Шагал, потрясен вошедшим в его сознание духовным откровением, это состояние перелилось в особую экспрессию цвета. «Мне казалось, — вспоминает Шагал, — что старик был зеленым, быть может, тень падала на него из моего сердца».
Скрипач на крыше. Около 1915 года.
В многочисленных вариантах (1912—1913, 1914, 1917, 1921 год и др.) знаменитого шагаловского «Скрипача на крыше» художник изображает до страсти и боли отдавшегося музыке скрипача, который не только выводит мелодию, но всю жизнь свою рассказывает. Зеленолицый музыкант чуть приседает в такт звукам, и перед его воображением проносится все, чем он живет день за днем, — деревня, дымки над избами, покосившиеся церкви, заснеженное поле…
Вспоминаются строки Осипа Мандельштама:
«Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант,
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант».
Конечно, изображенный Шагалом местечковый скрипач не Шуберта «наверчивал», какую-нибудь народную песню, старинную, от дедов и прадедов идущую и за сердце хватающую мелодию. Но уж зато отделывал он ее «как чистый бриллиант»…
Бывают художники — наблюдатели и интерпретаторы. Они смотрят на жизнь из некоего отдаления и судят о ней со стороны. Но есть и мастера, которые любой сюжет трактуют как неотъемлемую часть собственной биографии, видят себя прямыми участниками изображаемого, пусть даже это возможно лишь при помощи мечтательных допущений и фантасмагорий.
В искусстве Шагала два эти вида творческой типологии чередуются, хотя второй из них ему несравненно ближе первого. Огромный цикл его произведений 1915— 1917 годов целиком принадлежит к разряду биографических. Но собственные переживания и оттенки чувств художник переводит в план общечеловеческой значимости.
Главным событием жизни Шагала в эти годы была женитьба на Белле Розенфельд. С ней связан один из самых своеобразных и совершенных образцов любовной лирики XX века.
Бесспорно, Белла Розенфельд была незаурядным человеком. Она получила прекрасное образование: изучала литературу (темой ее выпускного сочинения в школе Герье было творчество Ф. М. Достоевского), историю и философию, занималась актерским мастерством в одной из студий К. С. Станиславского. Словом, она была приобщена к высотам интеллектуальной жизни России и щедро делилась своим духовным опытом с Шагалом. Белла и Марк с первой же встречи не только поняли друг друга, но как бы слились душами и стали нераздельны. Многое из того, что мы привыкли традиционно считать шагаловским, перешло к мастеру от Беллы и стало неотъемлемой частью его собственного существа, человеческого и творческого.
В своих поэтичных воспоминаниях (она ведь была еще и незаурядной писательницей) Белла рассказывает, как, собрав огромный букет, она пришла на квартиру к жениху, чтобы поздравить его с днем рождения. Шагал тут же выхватил из какой-то кучи чистый холст, поставил его на мольберт и лихорадочно начал писать. Вот что — в воображении и описании Беллы — было дальше:
«Я еще держу в руках цветы. Я не могу устоять на месте. Я хотела бы поставить их в воду. Ведь они скоро завянут. Но очень скоро я о них забываю. Ты набросился на холст, который дрожит под твоей рукой. Ты окунаешь кисти. Красная, синяя, белая, черная краски брызжут. Ты втягиваешь меня в поток красок. Вдруг ты отрываешь меня от пола и сам срываешься в порыве, словно бы тебе слишком тесно в комнате. Ты вытягиваешься, тянешься к потолку, плывешь к нему… Я слушаю мелодию твоего голоса, нежную и торжественную. Даже в твоих глазах можно услышать эту песню, и мы вдвоем, в унисон, медленно поднимаемся над твоей разукрашенной комнатой и улетаем. Мы хотим выбраться за окно. Там, снаружи, нас зовет к себе голубое небо. …Поля цветов, крыши, дворики, церкви плывут под нами».
Это не просто пересказ картины 1915 года «День рождения» или ее сценарий. Это совершенно органичное лирическое переживание, если угодно, любовный фольклор молодой пары, который стал отправной точкой целой линии художественных открытий мастера. Белла не просто поняла ( и приняла эти открытия, она их во многом вдохновила и подготовила, сделала их одновременно и фактом жизни, и легендой искусства.
Упомянутая картина «День рождения» — ключевое произведение целого периода, которое содержит в себе важнейшие черты поэтики и стилистики Шагала в те годы.
Пожалуй, главная среди них — полная естественность связи реального и сказочного. Метафора не накладывается на изображение, а, напротив, словно бы сама вырастает из ее жизненной сути. Конечно, центральный мотив взлета преодолевающих земное тяготение возлюбленных совершенно невероятен. Но детали обстановки создают среду самого обычного течения жизни. Иными словами, художник поднимается к ирреальности по ступеням реального. В самом деле, что может быть более убеждающе-достоверным, чем этот спокойный пейзаж полдневного Витебска за окном, эти узорчатые коврики на стене, стол с нехитрым натюрмортом? Как всегда у Шагала известная наивность раскраски сочетается с тончайшим артистизмом колористических отношений. Оттенок детскости восприятия не становится ведущим свойством стиля, скорее, он выглядит как дополнительная краска на общей эмоциональной палитре этой мечтательно-романтической композиции. Ощущением счастливой душевной полноты, красоты и безграничности
любовного чувства пронизана вся изображенная сцена. И если общеизвестную словесную формулу «полет чувства» обычно даже поэты воспринимают как метафору, то для Шагала это буквальное действие, которое он показывает с такой же само собой разумеющейся естественностью и простотой, как цветы на ковре или милый сердцу витебский вид. Это именно такое неотторжимое сочетание реальности и вымысла, будничного и фантастического, которое возродило в нашем столетии жанровые основы фольклорного мышления.
Ощущение чуда есть и в других произведениях жанра любовной лирики, которые художник создавал в изобилии на протяжении предреволюционных лет; в этом жанре он, пожалуй, не имеет себе равных в искусстве XX века. В многочисленных «Любовниках» нет никакой эксцентрики, но само чувство любви предстает здесь в таком изумительном, дивном живописном обличье, что воспринимается как подлинное поэтическое откровение, похожее на счастливый сон. Более всего это относится к двум шедеврам*мастера — «Зеленым любовникам» и «Возлюбленным в голубом» (обе эти картины выполнены, очевидно, в 1915 году). Они еще не оценены как следует историей искусства. Между тем уже хотя бы в силу своего живописного совершенства они заслуживают особого внимания.
«Для «Зеленых любовников» Шагал создал несравненное «варево специй», как сказал критик А. Эфрос. Картина чем-то напоминает витраж, ибо тончайшие оттенки синего, розового и зеленого охвачены игрой света. Он падает не откуда-то сбоку, а, скорее, струится изнутри, причем не подчиняется никаким оптическим законам, ибо по их нормам не могли бы появиться ни мерцающая синева, которая насквозь пронизывает голову мужчины, ни зеленые переливы на щеках, ни ослепляющие вспышки в нескольких деталях композиции. Вся эта цветовая среда составляет поэтическое сердце картины. Именно она создает ощущение радужной красоты, мечтательного, романтического сновидения. Сливающиеся в поцелуе лица возлюбленных лишены мимики, они застыли как маски. Любовь в этой картине имеет цвет и свет, а не фабулу, она воссоздана поэзией красок. Любовной ситуации придан в картине открыто карнавальный характер: он предстает в костюме арлекина, у нее лицо, как белая маска. Художник, казалось бы, не хочет прибегать к помощи традиционного психологизма. Но картина все же явственно «рассказывает» — выразительно объятие, след искреннего чувства лег на облики-маски, да и сама пронизанная любовными токами ночи трепещущая синева на свой лад повествовательна. Настроение цвета сливается с характером мизансцены.
В названных картинах внешний зрительный ряд остается по преимуществу жизнеподобным. Однако «сверхреальное» все время оказывается рядом, а иногда прорывается наружу. Так, бесконечно повторяемый в эти годы художником облик жены Беллы одним из холстов — «Белла в белом воротнике» (1917) — неожиданно представлен как возвыщающееся над всем будничным и преходящим божество.
Собственно, тут ведь тоже все составные части композиции совершенно конкретны и взяты «с натуры». Разве что кристаллические облака создают за фигурой Беллы совершенно особый фон и написаны в каком-то торжественно-астральном духе. А так и сама она, и сад на первом плане, и художник, который придерживает за руки дочку, делающую первые шаги, — все это показано с четкой, даже подчеркнутой реальностью.
Но пропорции между отдельными частями изображения взяты столь неожиданно, что иллюзия внешней достоверности взорвана и уничтожена. Белла в черном платье резким силуэтом вписана во всю высоту изображения и как бы упирается головой в высокое, светлое небо. Несмотря на полную современность и портретность своего облика, она и особой грацией фигуры, и всей своей тончайшей духовностью напоминает мадонн Ренессанса. Это подчеркнуто еще и масштабными сопоставлениями, благодаря которым все земное как бы расстилается у ног женщины — богини новых дней.
«Белла в белом воротнике» — пожалуй, самый вдохновенный из тех художественных парадоксов, которые порождены в 1915— 1917 годах воображением Шагала, творцом мифологии счастья. Такой строй фантазии стал почвой и для окончательного оформления прекраснейшего из творческих открытий мастера — мотива свободного полета человека над землей. Но этот мотив найдет свою окончательную разработку уже после Октябрьской революции.
Незадолго до Октябрьской революции имя Марка Шагала стало в России знаменитым. В 1915— 1917 годах его произведения многократно и широко выставляются, о нем пишут виднейшие критики — А. Бенуа, Н. Пунин, Я. Тугендхольд, А. Эфрос (двое последних подготовили монографию о мастере, которая вышла в 1918 году). Большой авторитет, а также общеизвестный демократизм взглядов Шагала наверняка могли обеспечить ему видное положение в художественной жизни Петрограда послереволюционной эпохи. Но он счел своим гражданским и человеческим долгом отправиться в родной Витебск, где, если использовать слова А. Эфроса, «по-своему делал революцию». .
Шагал «делал» ее с чрезвычайной активностью. После поездки в Москву к Луначарскому он назначается комиссаром-уполномоченным по вопросам изобразительного искусства в Витебске и Витебской губернии.
Витебский «комиссар» вскоре основал народную художественную школу (иногда ее называют академией), музей, куда была прислана из нескольких городов первоклассная коллекция картин, возглавил бурную деятельность по украшению города в дни революционных празднеств. Шагал полон энтузиазма и верит в торжество новых художественных исканий и инициатив. «Преобразившийся трудовой народ, — писал он в 1918 году, — приблизится к тому высокому подъему культуры и искусства, которые в свое время переживали отдельные народы и о котором пока нам остается лишь мечтать». И обращался с призывом к художественному миру России: «Людей! Художников! Столичных в провинцию! К нам! Какими калачами вас заманить?»
Хотя никаких «калачей» в распоряжении Шагала не было, он сумел «заманить» для преподавания в свою академию первоклассных мастеров (среди них были М. Добужинский, Р. Фальк, Я. Тилберг, И. Пуни, К. Малевич, Ю. Пэн, Л. Лисицкий и другие). Витебская художественная школа на некоторый срок стала одной из ведущих в стране.
Сейчас трудно создать достаточно полное и точное представление о том праздничном оформлении, которое было подготовлено под руководством Шагала в Витебске (1918—1919 годы) — сохранились лишь некоторые фотографии и документы. Судя по всему, это оформление обладало ярчайшим декоративным богатством, ораторской силой и, несмотря на смутную символику некоторых композиций, темпераментно выражало ведущую революционную идею преображения жизни в духе свободы и демократии.
Шагал рассказывает, что к моменту Октябрьской годовщины 1918 года «губерния Витебская была разукрашена около 450 большими плакатами, многочисленными знаменами для рабочих организаций, трибунами и арками».
Мастер вспоминает также, что перед самым праздником он передал местным художникам «дюжину эскизов», которые они перевели в большую форму; эти огромные символико-декоративные панно были развешаны по всему городу. Он был буквально затоплен красными стягами, лозунгами, лентами,. орнаментами, которые виднелись не только на фасадах домов, но и на трамваях, уличных будках, над головами многочисленных демонстрантов. Поток колыхавшихся на ветру красных полотнищ, которые вечерами по мере возможности освещались, создавал общий фон праздника.
Работы, выполненные по эскизам самого Марка Шагала, проникнуты романтикой всеобщего преображения мира, которая для художника была своего рода формой поэтического осмысления революции. Сохранился эскиз транспаранта «Вперед»: молодой человек, раскинув руки, как крылья, плывет в густой синеве небес над самим городом, над всем миром. Тут получило неожиданно актуальную трактовку традиционное для витебского мастера тяготение к космизированности образов. В масштабной метафоре транспаранта воплотилось особое шага-ловское чувство свободы как всеобъемлющего счастья, охватывающего весь мир.
Война дворцам. 1918-1919 годы.
Из других праздничных эскизов Шагала более всего известен лист «Война дворцам». Для него мастер использовал образ, встречающийся в его произведениях еще с 1914 года: человек поднимает и несет дом. Однако в более ранних работах это свой дом героя: «все свое ношу с собой», родной дом следует за человеком как его тень и судьба. В эскизе 1918 года фабульная схема выглядит решительно иначе: простолюдин, мужик в подпоясанной русской рубахе, быстрым и ловким движением, словно играя, поднимает дом с колоннами. При всей внешней простоте действия в нем просматривается сложный символический смысл. Мужик показан на фоне неба и как бы на краю земли: это опять вариация вечной шагаловской темы — человек и мир. Причем этот мир изменяется на глазах, в нем появляются новые качества, которые позволяют преодолевать даже силу тяготения, — господский дом вдруг становится легким, как бумажный кораблик. Разумеется, это метафора нового соотношения социальных слоев — простолюдин побеждает, бывшие господа утрачивают свои «вес». Идея здесь не ограничена рамками обычного, повседневного сюжета, но переведена во вселенский регистр — так на образном языке своего искусства Шагал оценивает жизненные изменения, которые произошли после событий Октября.
В таком же «вселенском» плане решен и третий из сохранившихся эскизов Шагала для праздничного оформления Витебска 7 ноября 1918 года — всадник на лошади мчится в небесах над городом и трубит победу. Как причудливо смешались в этом панно библейские мотивы и революционные реалии! Над всадником развевается красное полотнище, он одет в форму, напоминающую красноармейскую Но вместе с тем это во многих отношениях сказочно-мифологический образ, дающий самой идее революции всеобъемлющую трактовку (естественно напрашивается воспоминание о завершенных в том же 1918 году блоковских «Двенадцати», где впереди отряда, который держит «революцьонный шаг», появляется Христос «в белом венчике из роз»)
Надо сказать, что для русского искусства послеоктябрьской эпохи особо характерно сочетание конкретных и идеальных начал. Причем на какой-то период идеально-романтические черты оказались преобладающими (для Шагала, впрочем, навсегда, как российский художник он словно остался в рамках этого периода до конца жизни). Ведь искусство России сразу же после революции стремилось набросать портрет будущего, которое уже началось, увидеть воочию берега счастья, «очарованную даль». Не воспоминание о некоей счастливой Аркадии прошлого, не преклонение перед абстрактным образом мировой гармонии, но попытки художественного предвидения прекрасной новой жизни — вот в чем основной смысл многих произведений литературы и искусства тех лет.
Более всего им свойственна уже упомянутая всеобщность переживания и изображения происходящего: событиям в поэмах, картинах, архитектурно-скульптурных композициях придавались черты вселенского размаха, охватывающего буквально весь мир, все народы, все течение и движение жизни. Всемирными становятся чувства, устремления и страсти, любовь в особенности. «Председатель Земного Шара» Велемир Хлебников воспевает революцию как дивное царство всемирного взаимопонимания и любви:
Где Волга скажет «лю»
Ятцекиянг промолвит «блю»,
И Миссисипи скажет «весь»,
Старик Дунай промолвит «мир».
И воды Ганга скажут «я»…
Всегда, навсегда, там и здесь!
Всем все, всегда и везде —
Наш клич пролетит по звезде!
Язык любви над миром носится
И Песня песней в небо просится.
«Над миром носятся» и «в небо просятся» — образы творений многих поэтов и художников России после Октября. В их числе и Владимир Татлин, который в своем «Памятнике III Интернационалу» создал своего рода модель нового, идеального мира; и Константин Юон с его «Новой планетой» — эпической аллегорией революции, где общественные события переводятся в план космических потрясений; и Павел Филонов с его «вводом в мировой расцвет», стремлением приобщиться к космосу, светилам, планетам, беседовать со звездами, увидеть мир как целое; и Кузьма Петров-Водкин, который в знаменитой «Петроградской мадонне» («1918 год в Петрограде») вознес над эпохой революции образ матери как символ вечного обновления жизни.
Живописные произведения Марка Шагала, созданные в 1918— 1921 годах, также пронизаны духом романтической идеальности мира. В них торжествует чудо, все они так или иначе приобщены к неким высшим силам, врывающимся в обычный ход жизни и решительно преобразующим ее.
Своего рода эпиграфом к такому образно — символическому строю может служить большое полотно «Видение» (1917—1918). Художник рассказывает, что его фабульной основой послужил один давний странный сон:
«Меня одолевали сны. Квадратная, пустая комната. В углу одинокая постель, где сижу я. Темно.
Вдруг разверзся потолок и крылатое существо с шумом и грохотом спустилось вниз, наполняя комнату движением и облаками.
Шелест влекущихся крыльев.
Я понимаю: ангел! Не могу открыть глаза, становится слишком светло и лучисто. Пошарив всюду, он поднялся к прорези в потолке, унося с собой весь свет и голубой воздух.
Снова стало темно. Я проснулся.
Моя картина «Видение» вызвана этим сном».
И действительно, сюжет полотна соответствует этому описанию. Единственное отличие — живописец сидит не на постели, а у мольберта с кистью в руке. Отличие, впрочем, весьма существенное, ибо определяет смысловую структуру композиции. Художник ощущает себя словно бы медиумом, через сознание которого проходит тайная суть бытия, дабы быть выраженной на полотне, пока еще пустом. Вся картина выдержана в нехарактерных для Шагала прохладных — синих, зеленых и белых — тонах, имеющих некий астральный оттенок и, конечно же, вызывающих ассоциации с живописью Врубеля — единственного мастера не только в России, но и во всей Европе на рубеже XIX— XX веков, который, так сказать, разговаривал с вечностью, залетал в своем воображении в заоблачные выси.
Шагал обладал редчайшей способностью — он абсолютно естественно смыкал повседневное и фантастическое (в этом ему будет близок еще один «Мастер» из России — Михаил Булгаков). Вот и в этой картине с ее миниатюрной детализацией (видны не только предметы, но и узор вышивки на сползающей накидке кресла, линии ската крыш, виднеющихся за окном, и т. д.) на весь уютный покой банального ложится отсвет таинственного. Слегка кубизир-ванные сгибы одежды художника, крыльев ангела и окружающего его фигуру облака воспринимаются как музыкально-зрительный образ высокого душевного волнения. Сине-зеленые пышные облака, стелющиеся по полу, хоть они и выглядят как-то в одном ряду с креслами, лампой, столиком и другими частями обихода, вместе с тем имеют преображающее свойство — они придают изображению некий небесный регистр, переносят его во вселенский план.
К нему примыкают и картины великого триптиха 1917—1918 годов — «Над городом», «Прогулка», «Двойной портрет с бокалом вина». В этом цикле любовная лирика и поэтическая трактовка революции как всемирного обновления, перехода ко всеобщей гармонии получают поистине классическое истолкование.
Двойной портрет с бокалом вина. 1917-1918 годы
Образной основой всех трех картин цикла оказывается мотив победы над земным тяготением, свободного полета людей в мировом просторе. Если в начале и середине 10-х годов этот мотив использовался Шагалом преимущественно для того, чтобы вызвать ощущение странности, резкого смещения привычного, то в эпоху революции образная цель кардинально меняется — живописец стремится сделать полет над землей метафорой достигнутой свободы, обретенного счастья.
И действительно, в «Прогулке», «Двойном портрете», «Над городом» персонажи взлетают и летят с такой само собой разумеющейся естественностью, что у зрителя просто не возникает мысли о невероятности изображенного. И даже поразительно смелое построение композиций — скажем, строго горизонтальное расположение летящих фигур в картине «Над городом» и, наоборот, взмывающие в небеса вертикали в «Прогулке» и «Двойном портрете» — не вызывает никакого удивления. Я. Тугендхольд очень тонко заметил, что Шагал (как художник, разумеется) «умеет помнить сновидения». И впрямь совершенно сказочное действие — полет людей в небесах — художник запечатлевает так, словно видит его наяву. Фантастичность действия не обыгрывается, наоборот, оно изображено с простотой и убедительностью непосредственного лицезрения; именно так, не удивляя, предстает во сне «очевидное — невероятное».
Решения подобного рода — не просто лишь оригинальная находка, это отклик на духовную ситуацию революционного времени. Недаром же во всех этих картинах простые соотношения открытых красочных тонов создают ликующе-праздничный фон происходящему торжеству, любви, счастья, единения с миром. В них нет душевной потрясенности, трагических оттенков, столь частых в более ранних картинах Шагала. Это сугубо позитивный аспект жизни времени с его «лицевым событием» — русской революцией. Именно так представляется наиболее обоснованным трактовать творческое открытие художника.
Особенно отчетливо вдохновенно-радостная концепция цикла выражена в картине «Над городом». Вопреки обычаю Шагал принимался за нее несколько раз, делал и переделывал, пока не добился желанного результата. Показанный в нижней части полотна город, при всей его простодушной провинциальности и патриархальности (блеклый утренний туман висит над домами и садами, храмами и заборами, близ которых бродят люди и козы), — не какая-то географическая единица, но мир вообще, людская жизнь во всех ее измерениях. Взятая в иных масштабах (гораздо больших) летящая молодая пара сопоставлена с этим милым гнездовьем как нечто находящееся в другой духовной ипостаси. Счастье вознесло возлюбленных над земным и обычным, изменив их самих. Во всем торжествующая красота, «обыкновенное чудо» дивного преображения жизни.
Вариация такого восторженного чувства содержится в «Прогулке». Художник, шагая по земле, держит за руку свою юную жену, которая взвилась в воздух и трепещет там, как знамя на ветру. Да и сам-то молодой герой хоть и стоит на земле, но как-то непрочно, словно и он сейчас взлетит; ведь у обоих персонажей в равной мере «крылатое» настроение.
Как бы в обратном соотношении к «Прогулке» находится образная ситуация «Двойного портрета с бокалом вина». Здесь не художник поднимает в воздух свою жену, а, напротив, он сам, осеняемый спускающимся к нему с небес ангелом творчества, держа в руке праздничный бокал, взгромоздился на плечи Белле. Она ступает по земле легкой, быстрой походкой, словно бы и не замечая тяжести своего странного груза. Впрочем, по смыслу образа такой тяжести в обычном понимании вовсе нет. Мечтательно-сказочная условность сюжета просто не допускает буквализма его истолкования. Это же не натурная зарисовка, а притча о любви, о счастье. Несомненно, она звучит как парафраз знаменитого «Автопортрета с Саскией» Рембрандта. Причем варьируется не столько фабульная схема (хотя черты близости очевидны), сколько связанная с ней апология счастья жизни, хмельного, переполняющего душу упоения любовью. К слову сказать, в своем обращении к этому полотну Рембрандта Шагал не был одинок среди русских живописцев послереволюционной поры. Так, немногим позже и с подобной же целью тот же классическии прототип использует П. Кончаловский в своем «Автопортрете с женой» 1923 года. Но у Кончаловского — реальная, жизненно-достоверная сцена, а у Шагала — совершенно свободная «фантазия на тему», включающая и дерзкое своеволие композиции, и участие символических «потусторонних» сил (фигурка ангела), и наконец, даже прямое «вмешательство» космических сил. Слева от героев — диск солнца, справа, рядом с окруженным маленькими светилами ангелом, — спускающаяся с неведомых высот желтая пелена: расплавленное золото небесного эфира. Весь мир участвует в этом торжестве любви и счастья, безграничной душевной свободы… «Снова мы первые дни человечества!» — восклицал в одном из своих стихотворений революционной эпохи Велемир Хлебников. Персонажи «Двойного портрета» с их чувством сияющего, обновленного мира, в сущности, тоже, как Адам и Ева, живут ощущением «первых дней человечества». Это ощущение первородности рождает сама изобразительно-пластическая форма композиции. В «Прогулке», «Двойном портрете», «Над городом» почва дыбится циклопическими, целинными пластами, а колорит соединяет абсолютную чистоту красочных тонов с их блистательной декоративностью; вспоминаются одновременно и иконы, и Матисс.
Венчание. 1918 год.
Притчевость и «космизированность» свойственны практически всем станковым полотнам Шагала, написанным в революционную эпоху. Чаще всего эти качества соединяются и сплетаются. «Венчание» 1918 года, которое соседствует с циклом «летающих» возлюбленных, включает в себя и то и другое: молодых супругов соединяет спустившийся в небес ангелок, на щеке у невесты нарисована фигурка ребенка — предчувствие недалекого будущего, а на ветвях дерева неподалеку скрипач наигрывает мелодии — несомненно, свадебные (в светящемся окне дома на втором плане виднеется стол, накрытый для брачного пиршества). Удивительно, сколь естественной и само собою разумеющейся выглядит тут связь наивно-патриархальных и фантастических моментов повествования! Возникает на первый взгляд неожиданная мысль об известном сходстве работ Шагала и Нико Пиросманашвили (впрочем, такая ли уж неожиданная? Это сходство подметили еще современники; поместившие работы Пиросмани и Шагала по соседству на выставке «Мишень» в 1913 году). Речь идет не о внешней стилевой близости или конкретных взаимовлияниях (ни того ни другого не было и быть не могло), а о некоей типологии художественного миро-строения, которая у обоих мастеров (разумеется, у каждого по-разному) смыкалась с традициями народного искусства, с поэтикой средневековых фресок, икон, миниатюр и тяготела опять-таки к вселенским масштабам изображения мира. Современность и древние поверья, отзвуки сегодняшней жизни и эхо далеких традиций у них сливаются, образуя новый художественный синтез.
Одна из удивительных особенностей духовной культуры человечества в XX столетии заключалась в том, что величайшее усложнение интеллектуальной жизни, неслыханный прогресс научно-логических методов и принципов сочетаются с возрождением разнородных мифов, с нарастающим стремлением представить мировое бытие не в формулах и постулатах, но в условно-сказочных, не поддающихся обычному здравомыслию образах. Есть немало причин, порождающих такой парадоксальный «кентавризм» цивилизации, который, во всяком случае, оказывается одной из примечательных форм ее человеческого освоения. Пиросмани и Шагал каждый по-своему были увлечены таким освоением, сходясь в его мифологизации и игровой природе.И все-таки глубже и полнее всего поэтические начала творчества Шагала раскрываются в таких композициях, где «вселенские» мотивы звучат открыто, будь то полет людей в небесных пространствах или какие-то виды соприкосновения человека и космоса. Кроме упомянутых картин, к числу произведений подобного рода принадлежит еще одна работа. Я имею в виду гуашь 1917 года со странным названием «Художник: на луну» из собрания Георгия Костаки (ныне — Афины) Впрочем, тут все странно в своей покоряющей и убеждающей простоте. Живописец, держа палитру (изображение, несомненно, автопортретное), сложно изогнув тело и резко откинув голову, как бы в порыве вдохновения размышляет, приложив руку к губам, о своем новом произведении. Но он стоит (или, лучше сказать, плывет) в зыбко-голубом пространстве, окруженный какими-то космическими телами, чем-то вроде неведомых планет. Иными словами, свои поэтические видения художник — по логике картины — черпает из мирового пространства, живет его духом, его таинственной субстанцией. Узорчатый занавес справа и полукруглый врез внизу, где неким кадром возникает очередной витебский вид, дают, так сказать, земную программу интересов и мечтаний художника, связывают его с повседневной жизнью Но все это оказывается за кулисами основного действия, которое разворачивается в небесных высях. Это «звездный марш» Шагала, его живописная декларация о всемирном преображении, происходящем на глазах и потрясающем души художников.
Итак, Марк Шагал в одном ряду с некоторыми крупнейшими русскими поэтами, живописцами, скульпторами под влиянием свершений Октябрьской революции возрождает утраченную художниками предшествующих веков связь искусства с космосом. Замечено, что в европейской литературе коcмичность ощущения мира оборвалась на Шекспире, у которого «космические тела и силы — солнце, звезды, ветры, воды, огонь — или прямо участвуют в действии, или постоянно фигурируют, притом именно в своем космическом значении, в речах действующих лиц. Если мы рассмотрим эти же явления в драмах нового времени… то легко убедимся, что из космических тел они превратились в элементы пейзажа с легким символическим оттенком». (М. М. Бахтин).
В истории живописи сложилась приблизительно такая же ситуация — последними «космическими» мастерами были Босх, Брейгель, Эль Греко, Рембрандт. В последующие века эта традиция почти иссякает. И лишь в XX веке встречаются попытки возродить вселенскую масштабность художественного мышления. Россия в устремлениях такого рода шла впереди иных стран, а в ней «космическое первенство» после Врубеля принадлежит Шагалу. В своих ранних произведениях он передавал ощущение потрясенности мира, отдающееся во вселенских просторах. А в годы революции художник нашел способы гармонического объединения разобщенных элементов и частиц бытия, на его полотнах появился мир в целом, мир любви, счастья, радости, словом, как сказал поэт тютчевской традиции Николай Заболоцкий: «Мир во всей его живой архитектуре — орган поющий, море труб, клавир, не умирающий ни в радости, ни в буре».
Шагаловские метафоры свободы, взлелеянные воздухом революции и выражающие ее внутреннюю человеческую сущность, составили основу законченной и стройной художественной философии, охватывающей все бытие. Ее смело можно отнести к числу высших творческих завоеваний XX столетия.
В 1920 году художник навсегда покинул свой родной Витебск. Этому предшествовала острая размолвка с К. Малевичем. Будучи преподавателем созданной Шага-лом художественной академии, Малевич нападал на своего коллегу с позиций супрематической платформы и настроил против него студентов (кажется, единственный раз в жизни Шагал неожиданно оказался в положении беспощадно критикуемого «слева» консерватора). Совместное пребывание оказалось невозможным. Впрочем, Шагал к этому времени и сам уже несколько охладел к преподавательской деятельности, захваченный новыми творческими замыслами.
Художник с семьей едет в Москву. Наркомпрос дал ему возможность устроиться с семьей в небольшом подмосковном поселке Малаховка, где с 1919 года функционировала колония для 120 ребятишек-сирот «III Интернационал». Шагал преподавал там рисование, с величайшим трудом добираясь почти ежедневно до Москвы.
Зато тут его ожидало захватывающе интересное дело. Руководители переехавшией из Петрограда в Москву еврейской театральной студии (она стала называться Еврейский камерный театр) Алексей Грановский и Абрам Эфрос поручили Шагалу расписать интерьер их первого здания в Большом Чернышевском переулке (ныне ул. Станкевича).
Шагал работал поистине как одержимый. Какое-то время он просто не покидал здание будущего театра. «Из маленькой зрительной залы Чернышевского переулка Шагал вообще не выходил, — вспоминал впоследствии А. Эфрос. — Все двери он запер… Он исходил живописанием, образами и формами, радостно и безгранично». Современники называли зрительный зал театра «шагаловской коробочкой».
В сюиту шагаловских росписей зрительного зала Еврейского камерного театра в Москве входило девять частей. Главным (и в формально-пространственном, и в образном смысле) было расположенное слева от сцены панно «Введение в Еврейский театр». Напротив находил фриз «Свадьба». Под ним, в простенках между окнами, четыре композиции — «Музыка», «Танец», «Театр», «Литература». Слева от входной двери в зрительный зал помещалось панно «Любовь на сцене». В ансамбль входили также плафон и занавес.
Шагаловский цикл росписей обладает не только живописным, но и монументально-архитектурным единством. Зритель оказывался как бы внутри разноликого, многочастного красочного мира, объединенного общими декоративными качествами и сквозным ритмом, значение которого здесь крайне велико, — он, этот цикл, не только изображает, но еще и поет, а в особенности танцует! Вся разноплановая и разнохарактерная пляска с элементами пантомимы и цирка.
Введение в Еврейский театр. Фрагмент.
Более всего это очевидно в огромном панно «Введение в Еврейский театр». У него геометризованный фон, все формы которого (круги, цилиндры, прямоугольники) символичны. Это Солнце, Луна, планеты, в своей совокупности представляющие собой нечто вроде разреза Вселенной.
По сути дела, перед нами картина мироздания как арены вечного спектакля жизни — таков глубоко заложенный смысл панно.
Изображение построено в нем по принципу разворачивающейся спиральной пружины. Причем четкого верха и низа тут нет — некоторые фигуры (и людей и животных) изображены вверх ногами, другие, подпрыгнув, висят в воздухе, вновь и вновь повторяя излюбленный шагаловский мотив преодоленного земного тяготения.
В исходной части панно узнаваемо изображены сотрудники Камерного театра — Абрам Эфрос, Алексей Грановский, Марк Шагал, Соломон Михоэлс. Но эти фрагменты не меняют общей жанровой сущности панно. Оно похоже и на карнавал, и на праздник, и на живописную притчу, подчиняющиеся вихревому танцевальному ритму.
Все остальные части цикла как бы продолжают и варьируют образные и стилевые идеи «Введения в Еврейский театр». Для Шагала, подобно шекспировскому герою, «весь мир — театр». У художника «играет» Вселенная: люди, животные, предметы — актеры на всеобщей арене бытия. Вспоминается образ одного из стихотворений Бориса Пастернака:
Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.
Именно так «играл пред землей молодою» Марк Шагал в своих произведениях.
Цикл панно для Еврейского камерного театра в Москве был последней крупной работой, выполненной художником на родине.
В 1922 году при содействии А. В. Луначарского он вместе с семьей уезжает за рубеж — в Берлин, затем в Париж.
Естественно задать вопрос: отчего же Марк Шагал, столь горячо восприняв революцию, будучи деятельным ее участником, а в искусстве — певцом, покинул Россию через несколько лет после Октября?
Все дело в том, что история — это не школьная задачка на прямые пропорции. Да, горячо воспринял, воспевал, а потом уехал. Есть многое на свете, друг Горацио…
Так уж сложилось — и очевидно, это было неизбежно в определенных условиях, — что сложноассоциативное искусство художника многими воспринималось как нечто странное, а то и «ненужное народу». Это приносило мастеру тяжкие переживания. G первых же лет новой эпохи. Уже шла речь о том, с каким огромным энтузиазмом Шагал руководил работой по украшению Витебска ко дню празднования первой годовщины Октября. Многими оно было воспринято с восторгом. «Но обыватели на завтра, — с горечью рассказывал художник в газете «Искусство коммуны». — И только ли обыватели. С болью признаюсь: и передовые товарищи-революционеры — и они с пеной у рта засыпали нас недоуменными вопросами: «Да что же это такое? Объясните, объясните, объясните это пролетарское искусство».(В «Моей жизни» Шагал писал, что, собственно, требовали объяснить эти «передовые товарищи»: «почему корова зеленая, почему лошади поднимаются в воздух, почему?».)
В чем причина такого непонимания? Далеко не все были подготовлены к переносам понятий, метафорам, символическим иносказаниям, прямолинейно-иллюстративное восприятие искусства преобладало. «Реализм на подножном корму», как говорил Маяковский, оттеснял сложные формы искусства.
Непонимание оставалось, обиды росли и художник не выдержал. Он уехал за рубеж, искренне надеясь, что «Европа полюбит меня и вместе с ней моя Россия».
Горькие слова, печальное решение.
Но надежда Шагала оправдалась. Европа его полюбила, а затем и его Россия. Сейчас мы не мыслим нашу культуру без Шагала, как и без Рахманинова, Шаляпина, Бунина, Бенуа, Михаила Чехова, хотя все они по разным причинам уехали за границу и умерли на чужбине.
Впрочем, для Шагала отъезд был всего лишь физическим перемещением в пространстве. Ибо духовно он оставался на родине всегда и на протяжении десятилетий, по его собственным словам, продолжал чувствовать себя «столь близким России и ее почве», как и в день отъезда. Выступая на открытии выставки своих произведений в ГТГ 5 июня 1973 года, Шагал воскликнул: «Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как это ни странно, я вдали душевно жил с моей Родиной… Как дерево с Родины, вырванное с корнями, я как бы висел в воздухе. Но все же жил и рос…»
Всю свою особую поэтическую космогонию и связанный с ней оригинальный строй художественной речи Шагал сохранил — с известными изменениями — и в своих произведениях последующих десятилетий, вплоть до кончины в марте 1985 года. Навсегда поселившись во Франции (которую он покидал лишь в 1941 — 1947 годах, когда фашистская оккупация вынудила его перебраться в США), художник мгновенно обживает Париж, этот «мировой город», для него не утомительный в своей бешеной и хаотичной суете Вавилон, но райская обитель, где благоухают красочные луга, ангелы с цветами поздравляют влюбленных («Повенчанные Эйфелевой башней», 1928), а сама Эйфелева башня превращается в милую игрушку с лицом задумчивой девушки, которая беседует с горластым петухом, возглашающим наступление утра («Здравствуй, Париж», 1942).
В высшей степени характерно, что художник как камертоном поверяет иноземные образы российскими. Так, вслед за циклом лирических фантазий с парижскими реалиями (конец 20-х — начало 30-х годов) появляется «Обнаженная над Витебском» 1933 года, а позже — композиция «В честь прошлого» (1942), где автопортрет мастера окружают виды и лики его далекой молодости. Впрочем, подобного рода отголоски слышатся практически во всех крупных композициях Шагала, будь то многочисленные картины на современные сюжеты, фрески символического свойства, в том числе плафон «Гранд-опера» в Париже или роспись «Источники музыки» в нью-йоркском «Метрополитен-опера». Мечтательно-лирические виды Витебска и иных российских мест встречаются даже 8 композициях огромного шагаловского цикла «Библейские послания», размещенного ныне в особом Национальном музее Франции (Ницца).
Но, повторяю, этими мемуарно-географическими деталями отнюдь не исчерпывается пожизненная близость Марка Шагала тем художественным традициям, которые сложились в России и были связаны с ее преданиями и современностью. В известном смысле все последующее творчество мастера можно рассматривать как своеобразное развитие этих традиций.
Правда, они получили в зарубежный период такую трактовку, которая может показаться несколько ограниченной. С годами стремление показывать только светлые и радостные стороны жизни утвердилось как принципиальная и неизменная позиция мастера. Он полностью отдался праздничной тематике и праздничному мировосприятию (особенно в заключительные десятилетия жизни), и это, возможно, несколько ослабило драматическую мускулатуру его искусства.
Однако надо взглянуть на ситуацию в широком контексте эпохи. Тот колоссальный заряд жизненной энергии и светлого жизнеутверждения, который Шагал привез с собой из революционной России, придал его творчеству совершенно особый смысл и характер, резко отличающие произведения художника из Витебска от всего европейского искусства в преддверии второй мировой войны и особенно после нее. Рядом с распадом формы, ослаблением или полным исчезновением предметной изобразительности, рядом с апокалиптическими видениями злого, бессмысленного, бесчеловечного мирa произведения Шагала с их влюбленностью в чувственную красоту мира и торжествующей гуманистичностью выглядят удивительным и неповторимым контрастом.
Впрочем, несмотря на такое кардинальное отличие от большинства европейских художников-современников, Шагал не только не был отторгнут от так называемого «вкуса XX века», но оказался одним из его девизов и символов. Никто и ничто не могло бросить тень на победительную радость и красоту поэтической фантазии Шагала. Можно с полной убежденностью сказать, что он защитил на европейской арене лучшие гуманистические традиции искусства России и заставил весь мир поклониться им.
Одно из самых значительных художественных явлений нашего столетия, образная система Шагала, сложившаяся на родине, достигает в 30—60-х годах виртуозного совершенства. По своей типологии она обладает вполне определенной метафорической структурой.
В ее рамках мир представляет собой единое одухотворенное целое, где нет деления на живую и мертвую природу, где все наделено разумом и сердечностью. Поэтому естественно объединение всего со всем, допустимы любые перестановки обычных житейских слагаемых, любые кентаврообразные сочетания. При этом могут смешиваться не только живые существа и предметы, но и понятия, времена, территории. В «Автопортрете со стенными часами» 1947 года лик художника в юности (это воспоминание, живой частью входящее в реальность) выступает из туловища лошади (которая тут, как и во многих других композициях мастера, служит символом душевной чистоты и непосредственности); из футляра качающихся часов вырастают руки, как бы схватывающие и подчиняющие себе ход времени; в зеркале виден распятый Христос — его утешает возлюбленная художника (чей облик хорошо известен по другим полотнам). Это, разумеется, не конкретная сцена, а фантастический образ, представший в воображении живописца. Но примечательно, что он вырастает из юных видений живописца, которые всегда остаются первоосновой его образно-композиционных построений. Тот же принцип очевиден и в «Красной лошади» (1938—1944), где сплелись воедино прошлое и настоящее, а дорогу в будущее освещает несущаяся по воздуху лошадь с человеческими руками, которые держат горящий светильник; вся жизнь уподоблена здесь радостному, энергичному круговороту.
Такая концепция, бесспорно идущая от русского художественного мировосприятия 10-х годов, решительно противостоит эстетике сюрреалистов, с которыми Шагала нередко сравнивают. Ведь у сюрреалистов по большей части предстает угрюмо-бессмысленный мир, зиждущийся на нелепых, остродисгармоничных сцеплениях, угнетающих и унижающих человека. Шагал, напротив, привез с собой из России приверженность к любви и светлой человечности — этому он оставался верен до конца своих дней. На склоне лет Шагал говорил: «Наперекор всем трудностям нашего мира во мне сохранилась часть одухотворенной любви, в которой я был воспитан, и вера человека, познавшего любовь. В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и Искусству. Цвет Любви. В этом цвете я различаю все те качества, которые дают нам силы совершить что-либо в любой из областей».
Характерно, что самую приверженность любви Шагал связывает со своим воспитанием, с вырастившей и сформировавшей его Родиной. Гуманизм российских начал, воспринятых в юности и получивших окончательное оформление в революционную эпоху, способствовал тому, что Шагал становился в оппозицию таким школам и направлениям западноевропейского искусства XX века, которые отрицали человечность, красоту, любовь.
Недаром же жизнь у позднего Шагала так часто выступает в образе красочного волшебства, вечного и всегда неожиданного праздника жизни («Волшебник», 1968, «Птица-солнце», 1969, «Ноктюрн. Ваза цветов», 1943, и др.). В огромном библейском цикле, который художник создавал несколько десятилетий, праздник переносится на всю Вселенную.
Композиция с букетом цветов.
Основные параметры жизни мира в поздние годы творчества Шагала сопряжены с чувством торжествующей радости и счастья. Примечательно в этой связи, как изменилась 8 работах мастера трактовка времени. В ранних вещах она строга и сурова. Вспомним, например, о «Субботе» 1910 года, где резко тикающие ходики оказываются единственным действующим и энергичным персонажем в атмосфере некоего оцепенения. Несколько позже Шагал создает целую серию картин, где часы — Время выглядят полновластным тираном, который подчиняет своей беспощадной воле людей, обстоятельства, само движение жизни.
Время не имеет берегов. 1930 год.
Но с годами Шагал преодолевает эту острую дисгармонию. Диалог художника со временем продолжился и получил неожиданное, но вполне логичное для него завершение. В картине 30-х годов те же часы из витебского родительского дома (они навсегда остались для Шагала символом Времени) появляются уже в совершенно иной конфигурации образов. Над ним пролетает рыба с человеческим ликом, похожим на автопортреты мастера. У нее могучий размах пламенеющих крыльев, а из ее туловища вырастает тонкая, нервная рука, играющая на скрипке. Это — метафора искусства, которое подчинило себе ход времени. Покосились и ослепли, потеряв свою объективную значимость, часы, они тоже куда-то улетают, уступая силе и могуществу творческого воображения. «Время не имеет берегов!» — таково заглавие картины. И, словно подтверждая этот тезис, на дальних планах изображения, как из глубин памяти, проступают образы юности художника, его Витебск, широкая Двина, объятия возлюбленных.
Чем старше становился Шагал, тем более явственно и прочно утверждалась в его произведениях эта концепция безграничности, I безбрежности времени. В каком-то смысле ее поддерживал и прямой опыт жизни самого мастера. Ведь, по меткому определению итальянского искусствоведа Лионелло Вентури, «творчество Шагала — поэтическая метафора его собственной биографии». Он прожил почти полный век, не дотянув лишь немного до своей 98-й годовщины. Последний из своего художественного поколения, Шагал был окружен тенями и воспоминаниями. В десятках новых произведений — а он работал до конца дней и даже незадолго до кончины устраивал выставки, целиком состоявшие из новых картин и графических композиций, — проплывали фигуры, пейзажи, сценки, связанные с давним, но не ушедшим прошлым. Тут на равных правах оказывались горбатые улицы Витебска и сверкающие феерии Парижа, лица близких и библейские персонажи, Дон Кихот и Икар, добрые животные, улыбающиеся людям светила, здания, получившие человеческий облик, и люди, сроднившиеся со стихиями и как бы приобщенные к действию мировых сил. Любое из этих шагаловских полотен воспринимается как живая часть вселенной, содержащая в себе все ее качества и свойства, всю «музыку сфер».
По мысли художника, эта вселенная подчиняется законам любви, красоты и бессмертия — праздничное царство достигнутых и осуществленных идеалов. У времени, в сущности, остается только одна функция — объединять все доброе и светлое, что когда-либо встречал и может встретить человек. Иными словами, время у Шагала становится одной из категорий радости. Таков финальный итог развития в творчестве мастера тех художественно-поэтических тенденций, печатью которых была отмечена его юность.
Художник из Витебска прожил огромную и сложную жизнь, он немало мучился и метался. Но близость к народно-праздничной поэтической философии, обретенная им в России, навсегда осталась для него как бы исповеданием веры. Шагал — один из тех художников нашего века, голосом которых говорит извечная традиция народного жизнеутвержде-ния. Всепроникающая одухотворенность и глубокая человечность всех важнейших смысловых и интонационных оттенков его произведений в большой мере идет именно от этой традиции.
Человечность тут особенно важна и принципиальна. Марк Шагал упрямо и свято, как основу основ и тайное тайных, пронес ее через все многочисленные повороты своего долгого творческого пути. Человечность позволила ему от ранней, мятежной юности до глубоких седин сохранить абсолютную непосредственность восприятия, «видеть мир особыми глазами, как будто только что родился». Она оказывалась естественной самозащитой мастера при его соприкосновении с различными тенденциями, развивающимися под знаком дисгармонии и бездуховности. Она дала силу его могучему воображению, сумевшему подняться над всеми тяготами и бурями времени к радостному утверждению красоты бытия, душевной свободы. Она, наконец, сберегла сердечную преданность и любовь великого художника к взрастившей его российской земле, где он впервые восторженным юношеским взором увидел мир как светлый всеобщий праздник, который он славил и воспевал всю свою последующую жизнь.
А. А. Каменский
В Москве, в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Л. С. Пушкина, с огромным успехом прошла выставка произведений Марка Шагала. Здесь были представлены картины, созданные великим мастером в разные периоды его долгой жизнн. Наряду с широко известными, прославленными вещами, экспозиция включала и работы, которые десятилетиями хранились в частных собраниях и практически были не известны ни специалистам, ни зрителям.
Когда-то при имени Марка. Шагала прежде всего приходили на память всякого рода чудачества и парадоксы. Сейчас они отошли куда-то в тень, на второй план, а господствующим впечатлением от творчества этого мастера оказывается классичность. Разумеется, новая, неведомая, тысячами нитей связанная с жизнью нынешнего века, но — классичность. Ибо что же и называть классикой изобразительного искусства. как не гармоничное соединение человечности идей
и совершенства их выражения?
Именно в таком ключе звучит — и с дивной, летучей музыкальностью! — все искусство Марка Шагала, каким представила его нынешняя выставка, открытая в связи со столетием со дня рождения мастера.
И стало ясно, что живопись XX века не знала более тонкого и вдохновенного мастера любовной лирики, чем Шагал. Включенный в экспозицию его цикл «Любовники* (кстати сказать, почти не известный ни зрителям, ни даже специалистам он показан тут впервые) — настоящее поэтическое откровение. Чувство любви предстает на картинах цикла в изумительном живописном обличье. «Зеленые любовники», чем-то напоминают мираж, ибо тончаишие цветовые оттенки охвачены игрой цвета, не подчиняющегося никаким оптическим законам: головы странно мерцают, в деталях полотна видны ослепительные вспышки, и это не блики освещения, но порывы чувства. А в «Голубых любовниках» любовь имеет цвет вечернего неба. Из его густого марева лики возлюбленных выступают не полностью, они принадлежат этой синеве, как живой материи их чувства.
Сколь ни поразительна красота и проникновенность подобных поэтических миниатюр Шагала, ими его любовная лирика вовсе не ограничивается. Художник придал этому жанру неслыханную масштабность, связав с ним и гражданские идеи, и даже, саму философию мироздания В самом деле, что представляет собой фантастический и вместе с тем обескураживающий естественный полет молодых возлюбленных в картине «Над городом» из Третьяковской галереи? Это гениально найденная форма вдохновения любви, любви, которая дает людям беспредельно счастливую власть над миром, над земным тяготением!
«Над городом» и некоторые другие «полетные» картины Шагала с их поэзией всеохватного счастья написаны в годы русской революции. Было бы наивностью предполагать, что это случайное совпадение. Искусство может откликнуться на важные события времени сюжетными повествованиями, но оно обладает правом и на сугубо эмоциональный отклик, на поэтический перенос понятий. Недаром же Александр Блок писал в 1918 году о музыке революции, чьи звуки «вылетают из мирового оркестра».
Марк Шагал в самом прямом и буквальном смысле придал своему искусства звучание «мирового оркестра», игра которого сообщает явлениям жизни земной подлинное величие, насыщает их отблесками космической дали, вводит в художественное действие «хоры стройные светил»…
Муза. 1917 1930 годы.
Свою особую систему жизневосприятия Шагал выразил не только в полуфантастических картинах с их мотивом свободного полета, но и в работах внешне более обычных. Например, в портретах. К этому жанру, вообще-то говоря, художник обращался не так уж часто, особенно за пределами семейного круга. Но самого себя Шагал будет показывать в сотнях вариантов, по любому поводу, придавая свои черты и лирическим героям, и персонажам бесчисленного множества самых разнообразных сюжетов, включая самые причудливые, — «кентаврам», соединяющим человеческие и звериные черты, даже просто животным. Это не какая-то маниакальность, но использование своего облика как некой символической формулы, которая, однако, всякий раз изменяется в зависимости от показанных обстоятельств, настроений, образных оттенков. Чаще всего это соединение постоянной маски и живого, полного острой, «сиюминутной» выразительности лика.
Автопортретную серию. Шагал начал в России. Особенно значителен был в этом плане 1914 год.
Как показала выставка в ГМИИ, в творчестве Шагала самым удивительным образом смешивается прозаическое и невероятное. Вот «Часы» того же, 1914 года. Казалось бы, что может быть более обыденного по сюжету? Но в картине решительно смещены и поставлены в обратно пропорциональные соотношения привычные реалии жизни. Часы изображены огромными, властно занимающими почти все пространство, atB углу притулилась крошечная фигурка, которая кажется совсем миниатюрной рядом с величавым обликом вещи. Иллогизм, мистика, как об этом не раз писали? Ничуть! Художник видит и утверждает в окружающей жизни века новую логику, ждущую понимания и истолкования. В «Часах» так же, как и во многих иных произведениях,, Шагал передает свое глубочайшее убеждение, что мир сдвинулся со своих привычных осей и при этом вечные категории жизни, незаметные за монотонно установившимся ходом повседневного, вдруг как бы вырвались наружу и громогласно заявили о своей значительности и власти. Отсюда и смещение обычных взаимосвязей и пропорций. Часы — это символ Времени, его метафора. Человек сопоставляется, само собой, не с вещью, невесть почему получившей огромные размеры, а с категорией бытия в ее могущественном величин.
Свою не имеющую аналогий музыкально-живописную космогонию Марк Шагал привез с собой из России на Запад. И остался верен ей до последнего дыхания. В завершающем зале выставки, где расположены по преимуществу картины, написанные художником на излете жизни — две последние из них созданы в девяносто семь лет! — поистине «любовь владеет миром». Она порождает ослепительные видения. Голубые, фиолетовые, розовые и иные цвета богатейшей палитры, пронизанные зыбким, таинственным светом, объемлют эти бесконечные миражные пространства, где в небесах проплывают влюбленные пары, играют задумчивые скрипачи, трубят ангелы, расцветают феерические в своей красочности нежнейшие букеты, кувыркаются и льнут к людям доверчивые животные и бог весть, что еще происходит.
Он по-своему очень прост, этот мир. И в нем встречаются многие легкоузнаваемые, реальные детали — Витебск и Париж, русские пейзажи и Эйфелева башня, современные и библейские персонажи, родные художника и он сам во множестве обличий. Но любое из поздних шагаловских полотен запечатлевает как бы часть Вселенной, где звучит «музыка сфер» и чудо становится законом повседневного. Здесь все может соединиться со всем, время утрачивает обычные границы, впечатления сегодняшнего дня живут на равных правах с далекими воспоминаниями.
Художник над Витебском. 1977-1978 годы.
По существу, для художника правомочно только время памяти, когда любое событие трактует как нечто сиюминутное, происходящее на глазах. Одно из поздних полотен мастера так и называется: «Воспоминания художника» — он видит из сегодняшнего дня свою юность, милые сердцу витебские дома, невесту, пору любви и счастья. Все протяжение жизни обретает мечтательную романтичность, воспринимается как светлый праздник. Такое же смешение времен и образов и в картинах «На двух берегах», «Художник над Витебском», «Новобрачные на фоне Парижа», да, впрочем, и в любых других произведениях поздней эпохи работы художника, что бы они ни изображали.
Новобрачные на фоне Парижа. 1984 год.
Выставка позволяет понять, в чем же заключалось главное художественное открытие Марка Шагала, которое впервые дает себя знать в его произведениях русского периода и затем получает всестороннюю разработку в картинах заключительных десятилетий жизни мастера. Быть может, первым в истории искусства он нашел глубокие и точные зрительные аналогии внутреннему миру людей.
Невеста с синим лицом. 1932-1960 годы.
Художник стал изображать не только то, что человек непосредственно может увидеть, но и то, что он вспоминает, о чем думает, мечтает, к чему стремится.
Час между Волком и собакой (между тьмой и светом) 1938-1943 годы.
Таков мир Шагала, который представила нам его выставка. Посмертная. Его ощущение жизни при всей своей счастливой окраске всегда напоено своеобразной драматичностью — это закономерно и неизбежно для настоящего, чуткого искусства двадцатого века. Однако над драмами жизни, волнениями духа у, Шага л а всегда властвует чувство нерушимой красоты мира, высокого предназначения человека. От конкретных национальных интонаций, каковы бы они ни были, Шагал всегда восходил к музыке общечеловеческого звучания. Вот почему этот художник из России принадлежит ныне всему миру. Прекрасная выставка в Музее изобразительных искусств вернула Шагала родине и вместе с тем показала всемирное значение знаменитого художника.
А. Каменский.
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка Марка Шагала. Называется — «Здравствуй, Родина!», сами организаторы называют экспозицию огромной, крупнейшей, хотя на выставке — меньше 200 картин, правда, из них 27 представил парижский Центр Помпиду, другие — из Музея Марка Шагала в Ницце, из тех картин, которые Шагал завещал Ницце и будто бы даже просил никогда и никуда их оттуда не вывозить. Здорово, что привезли. Жаль, правда, что при подготовке крупнейшей экспозиции не удалось собрать под одной крышей более или менее «полного» Шагала из российских собраний, — из ГМИИ, из петербургских музеев, да даже и Третьяковка, кажется, выставила далеко не все. Что, вероятно, можно объяснить тем, что выставки Шагала одновременно проходят в разных концах света, по несколько в год (чему порукой и высокая работоспособность мастера, совсем чуть-чуть не дожившего до столетия и сохранившего любовь к кисти и краскам до последних дней).
Недостаток (если кому-то без малого двухсот покажется мало) картин компенсируется выставленными тут же письмами Шагала в Третьяковскую галерею, репортаж о его посещении Третьяковки в начале 70-х. В центре выставки — эскизы Шагала для оформления Еврейского театра, которые, справедливости ради, нельзя назвать открытием именно этой экспозиции (во всех отношениях, так как ничего интересного про Шагала они «не говорят»).
Смысл названия понятен, хотя такая вот бодрая афиша располагает к невеселым размышлениям. Третьяковская галерея, вероятно, намекает на то, что — говоря словами другого великого еврея-эмигранта — «не зарыли и не пропили». В смысле: все сохранили. И не просто сохранили, а теперь готовы открывать заново и свои запасники, а равно — предлагать свое знание и понимание. В Инженерном корпусе — Шагал, на Крымском валу — «Бубновый валет», а также и «Сообщники», красочный рассказ о советском неофициальном искусстве второй половины XX века.
Что же до печальных мыслей, они, как ни странно, рождаются во время путешествия среди веселых, переполненных счастьем картин Марка Захаровича. Которому не скучно было всю жизнь простоять с поднятой вверх головой, чтобы не пропустить ни одного сколько-нибудь значимого полета. Торжество духа над законами всемирного тяготения, торжество обращенной вовне, наружу, в необозримый космос, идиш-культуры.
В Витебске он как будто не видел всех ужасов творившегося вокруг разрушения, буквально — погромов, шире -безвозвратного исчезновения мира еврейского местечка, в Сан-Поль-Провансе — не замечал приморских красот, иссякания цвета (к примеру, кладбище, на котором похоронен Шагал, кажется, все, с самой первой могилы, вырублено, выщерблено из белой скалы, и все на нем выжжено, выбелено солнцем, — бело-серого и светло-серо-желтого камня). А у Шагала — по-прежнему летали те же коровы и петухи, и Париж был таким же зеленым, синим и красным, как Витебск (это, к слову, должно было бы расположить к нему тех, кто не жаловал заграницу).
Любопытно, что герои Шагала счастье испытывают над городом, в лучшем случае — забравшись на крышу, где никто не мешает пиликать на старенькой скрипке. Может быть, потому евреям Шагала так хорошо, что им посчастливилось подняться в воздух? Как бы ни велика была жизнь Шагала, пришлась она на не самые веселые времена для европейских его соплеменников. В жизни приходилось прятаться по подвалам, подниматься со своих мест, собирая нехитрый скарб, и отправляться на поиски счастья. Кто-то, конечно, находил, большинство — нет. А у Шагала счастье было неизменным и всеобъемлющим, как победа мировой революции. Правда, всегда оно было над землею, а не на земле. Чтобы поймать его, надо было подняться в небо, хотя бы на высоту поднятой руки.
Шагал. В отличие от собственной его судьбы его возвращение на более или менее историческую родину (где Витебск и где мы?) можно поделить на этапы или эпохи. Было время, когда мы знали его только по альбомам, которые стоили баснословно дорого, зато продавались почти во всех букинистических Москвы. Было время, когда мы «изучали» Шагала по стихам -«Василькам Шагала» Вознесенского или печальным -Рождественского: «Он стар и похож на свое одиночество, ему рассуждать о погоде не хочется, он сразу с вопроса: «А вы не из Витебска?» Пиджак старомодный на лацканах вытерся…» Хотелось пожалеть художника и даже помочь ему вернуться в Витебск. Можно еще вспомнить большую выставку Шагала в Пушкинском музее в 87-м, если не изменяет память.
Так что дорога домой для Шагала — это путь из ГМИИ имени Пушкина в Третьяковскую галерею.
Григорий Заславский.
Пассажиры, проезжающие через центр Лондона в подземке, могут из окна вагона увидеть на остановках изображение русского городка с избами, церковью и парящей над ними фигурой стройной женщины в длинном бордовом платье. Это фрагмент картины «Прогулка» Марка Шагала, позаимствованный Королевской академией искусств у Русского музея. Здесь открылась выставка «Шагал. Любовь и сцена».
Последняя большая ретроспектива художника прошла в Англии 13 лет назад, в год его смерти. На ней были представлены главные полотна Шагала, написанные на Западе, но тот этап творчества Шагала, что был связан с Россией, остался для них «терра инкогнита». Теперь благодаря работам прежде всего из Третьяковки и частных коллекций он обрел плоть.
Когда 27-летний живописец приехал в 1914 году из Парижа в родной Витебск на свадьбу сестры, он не собирался там надолго задерживаться. Его уже знали в Европе, особенно в салонах, где обретались поборники авангарда. Предложение устроить первую персональную выставку в Берлине вселяло надежду на то, что удастся творить, не завися больше от поддержки меценатов. Война перечеркнула эти планы, Шагал остался на Родине и пережил вместе с ней катаклизмы революции и гражданской войны.
Нельзя сказать, что Октябрь сразу перекрыл ему кислород. Шагал, как и многие деятели искусства, занял место в стане «красных», что в 1918 году его даже назначают комиссаром по делам искусств в Витебске. Хотя иллюзии по поводу того, что революция гарантирует людям искусства свободу самовыражения, постепенно растаяли, и в 1922 году Шагал навсегда покинул Россию. Однако, по словам автора монографии о Шагале Моники Бом-Дучен, «полотна, созданные на Родине в тот период, составили сердцевину всего его творчества, к российским мотивам он обращался вновь и вновь».
Печальный парадокс состоит, однако, в том, что об участи одной из своих главных работ, созданных в России,— громадного холста «Представление Еврейского театра» в Москве так же, как и живописи на потолке зрительного зала, мастер много лет не ведал. Не знали о ней и искусствоведы на Западе, не говоря уже о широкой публике. И только в 1973 году, когда, будучи гражданином Франции, мэтр авангарда XX века побывал у нас, ему разрешили совершить визит в Третьяковку и посмотреть на творение своей молодости, извлеченное из запасников. Шагал подписал его и поставил дату. После этого картину снова спрятали. Для советского зрителя ее существование по-прежнему оставалось тайной.
Тем не менее, по словам Моники Бом-Дучен, то, что полотно, которое покрывало одну из стен зрительного зала Государственного еврейского камерного театра (Госет) на Большой Чернышевской улице, вообще сохранилось, можно рассматривать как маленькое чудо. Оно символизировало расцвет еврейского театрального искусства в первые революционные годы, а»впоследствии стало рассматриваться как опасная ересь и подвергаться нападкам в печати. К тому же на громадном полотне наряду с автором и известными театральными деятелями изображен великий артист Михоэлс, убитый по приказу Сталина. Так что картина вполне могла не дожить до наших дней.
Выходцу из России Чимену Абрамскому, 81 года, довелось видеть произведение в 30-х годах,
уже после того, как театр переехал из тесного зала, вмещавшего всего 90 зрителей, в более просторное помещение на Малой Бронной. Чимен, тогда еще подросток, вспоминает, что сюрреалистические сцены, парящие или перевернутые вверх ногами фигуры актеров произвели на него даже большее впечатление, чем живые исполнители. Однако пора, когда люди могли наслаждаться пиршеством красок и образов Шагала, подходила к концу, рассказывает куратор выставки Сьюзен Комптон. Наступил 37-й год, и холст пришлось снять, свернуть и спрятать под сцену.
Там он пролежал больше 10 лет, вплоть до тех пор, когда кампания против космополитов достигла апогея и еврейский театр был закрыт. После этого картину перенесли в подвалы Третьяковки. Английские исследователи проштудировали воспоминания свидетелей событий, опубликованные у нас и на Западе. Комптон говорит, что существуют две версии спасения шедевра. Согласно первой из них, всю работу провели сотрудники Третьяковки во главе с директором. По второй версии, холст перенес туда на спине художник Александр Тышлер, страстный поклонник Шагала.
В 1966 году сотрудники галереи натянули полотно на барабаны. Это позволило лучше его сохранить. Тем не менее реставрационные работы начались только во второй половине 80-х, с приходом гласности.
Но что стало с «летающими возлюбленными», нарисованными, как полагают, на материи, прикрепленной к потолку в доме по Большой Чернышевской? Британские искусствоведы, готовившие нынешнюю экспозицию, полагают, что они безвозвратно потеряны. Ведь Госет первоначально располагался в большой квартире, переделанной в театр. После переезда на Малую Бронную холсты перенесли в фойе нового здания. А росписи на потолке, вероятно, остались в квартире, превращенной в коммуналку. До 60-х годов комната, где находилась сцена, служила спальней, а сегодня она используется как офис.
— И все же, — говорит Сьюзен Комптон, — когда смотришь на эти работы, настраиваешься на оптимистический лад. Жизнь — это не только печаль, говорит своей кистью Шагал, она полна смеха, радости и надежды…
Владимир Скосырев.