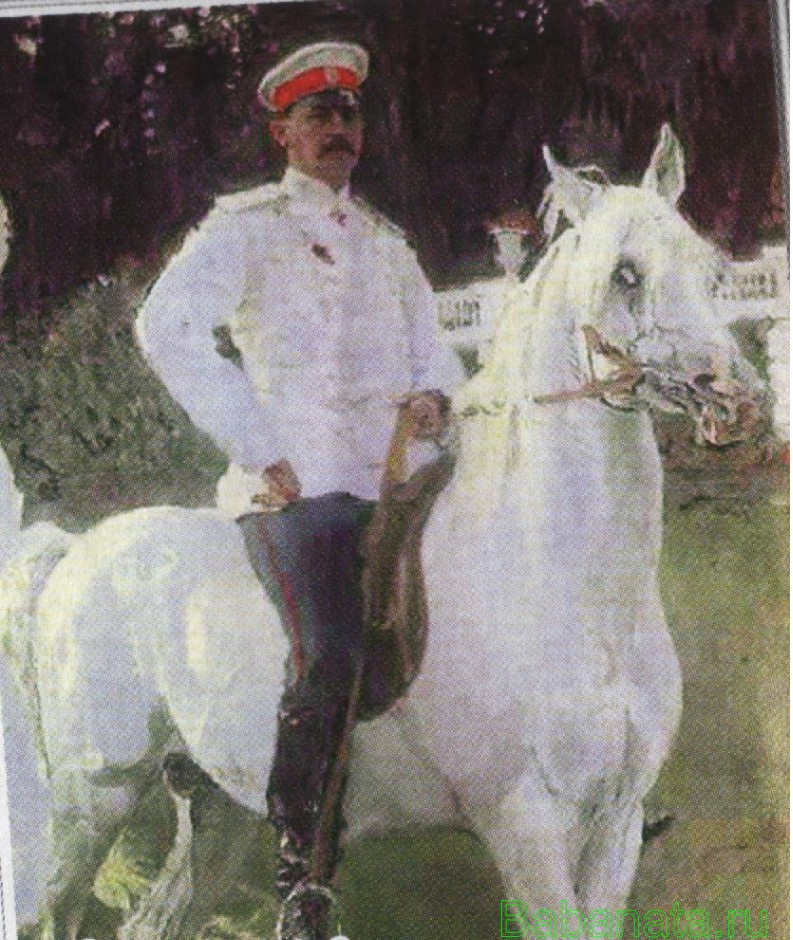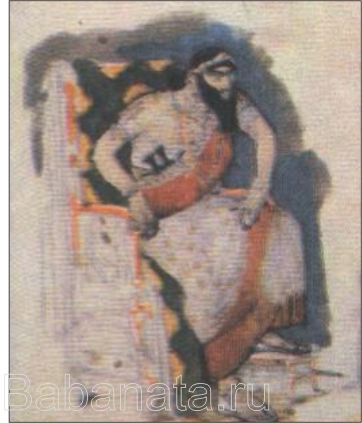Серов Валентин
Серов Валентин
 Валентин Александрович Серов является выдающимся русским художником. Творчество В. А. Серова — это живописные и графические портреты, пейзажи, картины на исторические темы, рисунки, наброски, иллюстрации к басням И. А. Крылова.
Валентин Александрович Серов является выдающимся русским художником. Творчество В. А. Серова — это живописные и графические портреты, пейзажи, картины на исторические темы, рисунки, наброски, иллюстрации к басням И. А. Крылова.
Греция стала ближе. Можно запросто купить по сходной цене билеты на чартерный рейс и махнуть куда-нибудь на Родос или Корфу. А там, поселившись у местных жителей, предаться вольной жизни с рыбалками и первозданными красотами, истоптанными великими бессмертными и безымянно канувшими в Лету. Эту варяжскую дорожку в перестроечное время заново проложили неуемные до впечатлений художники. Рецепт для всех, уставших от коллективных набегов, испробовала на себе и Елена Муханова, потрясшая на крутом историческом повороте Москву и Париж своими страстными соцартовскими персонажами.
А началось все гораздо раньше. Древние греки, приняв эстафету у египтян и ассирийцев, положили почин современной Европе. И тайна этой безлесной, выжженной солнцем земли с изъеденными средиземноморскими берегами и белокаменными руинами храмов до сих пор бередит наше воображение. С возрожденческих времен каждое новое поколение пытается найти частичку себя в той стране героев и богов.
Последие несколько лет стали праздником для любителей исторических странствий. С подачи греческой стороны в Москве и Санкт-Петербурге существует программа, исследующая связи двух культур. Была отдана дань античной литературе, библейским текстам откровений Иоанна Богослова, византийской иконописи, старинной картографии и географическим путешествиям.
Теперь настал черед выставки «Русские художники и Греция. XIX — начало XX века», разместившейся в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и подготовленной совместно с Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.
Романтический энтузиазм поэта Байрона вдохновил многих. В борющуюся с турками страну устремились художники. Первым русским живописцем, узревшим ландшафты свободной Греции, стал зачинатель отечественной пейзажной школы Максим Воробьев. В 1820 году вместе с дипломатом Д.В.Дашковым он отправился в плавание в «колыбель вкуса и искусств» вдоль берегов греческого архипелага. Его утончёные акварели — настоящее открытие и собраны вместе впервые.
В 1835 году уже другой русский дипломат, меценат и любитель античности В.П.Давыдов, организует целую экспедицию. Им двигало благородное стремление «сообщить моим соотечественникам виды прелестных стран и памятников Греции, снятых кистью наших лучших художников». С ним едут Карл Брюллов (только что закончивший в Италии известнейшую «Гибель Помпеи»), архитектор Николай Ефимов и другие любители старины. Гравюры запечатленных видов украсили «Атлас к путешествию В.Давыдова».
Троянские раскопки Г.Шлимана и А.Эванса разожгли любопытство нового поколения изыскателей. В начале 1880-х годов Василий Поленов заодно с Палестиной и Сирией посещает Грецию и привозит оттуда свои солнечные этюды.
И уж настоящими фанатами гомеровских преданий стали Валентин Серов и Лев Бакст. В 1907 году, всего за месяц поиска животворящего духа архаики, они создали серию уникальных натурных зарисовок. Позднее Бакст напишет воспоминания «Серов и я в Греции».
В разное время паломниками становились Иван Айвазовский и Алексей Боголюбов (но их работы на этот раз не смогли покинуть пределы Феодосии и Саратова). Вверял свои античные фантазии мрамору Сергей Конёнков. Соприкасаясь с мечтой о прекрасной стране богов и героев, и наше разрозненное цивилизованное сознание становится чуточку органичнее.
Впоследствии выставка отправится в Грецию — Афины, Крит и Салоники. Кстати, Салоники (откуда родом славянские просветители Кирилл и Мефодий) в этом году объявлены культурной столицей Европы. А в сентябре, в юбилейные московские празднования, уже в Кремле планируются еще одна экспозиция и международный симпозиум «Греческая культура и Москва». Некогда глубоко университетские откровения Сергея Аверинцева обретают ныне вполне мирские общедоступные очертания. И, наверное, не случайно, что конкурс по оформлению Парфенона к предстоящим международным легкоатлетическим соревнованиям в Афинах выиграл художник-постановщик Борис Краснов. Так давняя история российско-греческих взаимопроникновений делает еще один виток.
Елена Бизунова.
В нежнейшем человеке Серове замечали волчью повадку. «Я ведь злой»,— говорил Серов и называл себя скандалистом. Даже легенда о нем ходила, как о демоне, тяжелом, «ужасном, невоспитанном человеке».
«…приятно утром купить хорошую, свежую, душистую розу..»
Брал эту розу в зубы и шел, сосредоточенный, застенчивый, простодушный. Но жизнь не прощала ему простодушия. Хищное лицо сановника-буржуа, ряженное в сотни масок, с усмешкой и пренебрежением зорко следило за художником.
И Серов становился едким, даже «живая вода» музыки Моцарта не помогала ему, он впадал в глубокое молчание, его бледное лицо бледнело еще больше, голубые глаза «загорались». И тогда он был суров и непреклонен. Не хотелось ему быть судьей, беспощадно выносящим приговор, а приговор все же выносил, потому что считал: «надо тратиться». И тратился беспредельно.
…Долой кисти! Долой мольберты! Долой береты! Небрежно, кое-как намечена рубаха и прочее одеяние. Нам навстречу вырывается лицо, происходит процесс самоисследования: двойник на полотне оживает и вглядывается в своего создателя. Освещенное теплым золотистым светом лицо юного Серова — честного, сосредоточенного, думающего человека, уже, может быть, и растерявшего иллюзии, но не собирающегося поступаться своими принципами.
Это Серов, заклинающий себя «писать только отрадное» и создавший картины, которые помечены им в списке самых лучших его работ: «Веруша Мамонтова» и «Тамаша Симонович под деревом». Более известны они, как «Девочка с персиками» я «Девушка, освещенная солнцем». Молодой и неосторожный Серов словно задался целью — только в этих двух картинах исчерпать все самые яркие и сочные краски своей палитры. «Тогда я вроде как с ума спятил».
Тогда он еще беззаботно мчался по абрамцевскому саду вслед за двенадцатилетней Верушей Мамонтовой, азарт счастливой игры владел им. Восторженная пора беспричинного ликования среди прекрасных людей и прекрасной природы. Состояние очарования, даже потрясения отражают картины — в них отблески нравственного света и чистоты.
Серовские портреты не лгут и не льстят.
Иола Шаляпина.
«Не люблю мои портреты»,— говорил художник. Наверное, прежде всего о портретах «казенных», на которые жаловался: «Скучно». Но, вполне возможно, не любил он и другие портреты за муки, испытываемые им во время странствий по семи кругам Дантова ада души человека,в поисках истинного «я» своей модели. Ёще только ехал на очередной сеанс, а уже чувствовал себя в лихорадке нездоровья: «Каждый портрет для меня целая болезнь».
У портретов Серова забывается о том поте, которым, по словам К. Коровина, он «все брал». Его работа над картиной была изнурительна, бесконечна и оправдывалась лишь в том случае, если, как он считал, и после ста сеансов сохранялась свежесть одного.
Жуткий, выматывающий процесс понимания художником душевного мира своей модели; процесс, сравниваемый Асафьевым с мыслью совестливой и беспощадной. Мысль рождалась, утверждалась, запечатлевалась на полотне., «Каждый его. портрет,—говорил Шаляпин,—почти биография». Почти,— потому что все-таки довлело, царило его, Серова, понимание, резкое суждение о человеке. Чаше всего оно возводилось в абсолют. Портреты Серова сравнивали со страшным судом. Выморочный человек с беспощадным и непоколебимо-квадратным лицом. Обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев, который, по словам А. Блока, «…над Россией простер совиные крыла». Он, презиравший «все, и что любил, и что ненавидел», словно смеется на портрете брезгливо-недобрым смехом. А царедворец С. Ю. Витте — лукав, услужлив — выстеливший этой услужливостью себе путь из самых низов к высотам власти.
«…сидел наверху у Серова,— чистосердечно, даже с некоторой обидой за нескладно потраченное время, записывает в своем дневнике Николай II,— и почти заснул».
Серов писал портрет царя и видел в нем провинциального капитана. Иногда, они разговаривали. Вряд ли эти разговоры были самодержцу по вкусу, иначе не стал бы он называть художника ужасным нахалом.
Николаю II портрет не понравился. Серов видел в провинциальном капитане потенциального убийцу. В портрете царя находили лукавство н лицемерие, считали его одним из «самых фантастических психологических прозрений»
— Да, да,— говорил о портрете Серов уже после событий революции 1905 года,— да детски чистые, невинные, добрые глаза. Такие бывают только у палачей и тиранов. Разве не видно в них расстрела девятого января?
Серов был человеком с незащищенной совестью. Совесть и поступок не разделял.
Мог вызвать на дуэль буржуа, оскорбившего его мать.
Поленова не припимают в передвижники — Серов выходит из Товарищества.
Серов с Поленовым совершают акт большого политического мужества — пишут письмо в собрание императорской Академии художеств, президент которой, великий князь Владимир Романов, командовал войсками в Петербурге и руководил расстрелами.
«Мрачно отразились в сердцах наших страшные события 9 января».
Серов выходит из состава действительных членов Академии художеств.
Его видят у Таганской тюрьмы, когда .там освобождают политзаключенных; у университетских баррикад; на крестьянском съезде.
Угрюмый и ненавидящий, он создает рисунки-шаржи, рисунки-дркументы.
«Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» Массе демонстрации противостоят изломанные нетерпением фигуры казаков, вытаскивающие сабля из ножен и уже стреляющие. Дикий порыв офицера на скакуне — расправа
 Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава?
Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава?
Серов всегда был гражданином. Он постоянно размышлял о назначении своего таланта.
 Стригуны на водопое. 1904 год.
Стригуны на водопое. 1904 год.
В частности, и потому, что всегда жил на свете «крестьянский Серов», пронзительно любящий русскую деревню. Разве «Стригуны на водопое» не романтическая песнь? У сараев, на сероватом, чующем весну волнистом снегу — темные силуэты лошадей, четкие и запоминающиеся на фоне золотисто-лимонного вечернего неба. «Бабу в телеге» объявляли картиной сверхнациональной.
«Странною» любовью любил деревню Серов — и трогательно-восхишенной, и грустно-прощающей. Мы ощущаем эту любовь в «Октябре. Домотканово». В выбеленном осенью поле (больше всего нравилась художнику эта пора, когда собирается предзимняя грусть); в пасущихся лошадях; в сиротливо-озабоченно сидящем пастушонке Леньке.
Октябрь. Домотканово. Фрагмент.
Именно в Революцию создает Серов монументальные портреты людей, являющихся ее певцами и противостоящих силам мерзким, противоестественным,— Горького, Ермоловой, Шаляпина…
 Портрет М.Н.Ермоловой. 1905 год.
Портрет М.Н.Ермоловой. 1905 год.
…В полной тишине сидел Серов на маленькой скамеечке в квартире Ермоловой на Тверском бульваре и писал портрет.
Это была встреча великих молчальников. Так называли актрису. А Шаляпин как-то сказал о Серове: «Длин-н-но его молчание».
Год — юбилейный: тридцать пять лет появлялась Ермолова на сцене. Ее жизнь, ее страсть, ее триумф. Мария Николаевна стояла на фоне зеркала, видевшего ее во многих ролях. Знал ли художник, кто всякий раз появлялся перед ним? Эмилия Галотти. Лаурснсия, Жанна Д’Арк, Сафо, Олена, Федра, Негина, Юдифь?
Или совсем необыкновенная женщина, с такой огромной силой убеждения и страсти произносившая со сцены: •«Средь мрака ненастного верьте чудесной звезде, вдохновенья»,— что людям, которые и жили средь мрака ненавистного, сама она казалась этой звездой, готовой сгореть, но дать людям как можно больше тепла н света.
Великая актриса была «поэтом свободы», символом театра революционного, театра правды, добра и борьбы.
Ниспадающее платье черного бархата обрисовывало величественную фигуру. В ней чувствовались укоризна и вызов. На портрете Ермолова упрямо и жертвенно стояла перед судом, но судила сама.
…«Смерть дорогого человека,— говорил Серов,— железным кольцом сдавливает сердце». С годами все больше и больше носит он на своем сердце таких колец. Умирают Веруша Мамонтова и Надя Дервиз. Художник горько рыдает над могилой Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Рисует П. М. Третьякова на смертном одре. Люди уходят— портреты остаются.
Но самое тяжелое, сдавливающее кольцо, — поражение революции 1905 года. С того времени навсегда «испортился» характер художника. Он стал Рыцарем Печального Образа.
«Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим…».
Действительность, которая, по словам автора этих строк Александра Блока, ранее проходила «в красном свете», теперь стала заволакиваться вязким, гнетущим туманом. Боль, гнев, омерзение терзают душу художника: «Российский кошмар втиснут в грудь… впереди висит тупая мгла». Ему предлагают вновь написать портрет Николая II. «В этом доме я больше не работаю»,— срочно телеграфировал художник.
«У нас нет ничего настоящего,— писал историк В. О. Ключевской,— а все суррогаты, подобие, пародии…»
Настоящее накапливалось в глубине России, чтобы распрямиться и восстать в свое время. Серову не дано было знать о том.
Он все более и более становился «скучным Серовым», каким мы его видим на автошарже,— мрачный, в надвинутой шляпе, могучие плечи ссутулились, руки в карманах,— глухотоскующий.
В смерть Серова сначала никто не поверил. «Меня прямо опрокинуло»,— сказал М. Горький. Только на смертном одре увидели у художника «улыбку освобождения».
В. ЛИПАТОВ.
Из окон Петербургской Академии художеств Серов вместе с Поленовым и Гинцбургом 9 января 1905 года видел расправу царя с рабочими. Серов писал своему учителю Репину: «…Не забуду никогда — сдержанная, величественная безоружная толпа, идущая навстречу кавалерийским атакам и ружейному прицелу, зрелище ужасное… Невольное чувство уйти — выйти из членов Академии, но выходить одному не имеет значения».
Скоро в газетах появилось сообщение о выходе В. Поленова и В. Серова из состава императорской академии.
Гражданское мужество, неподкупная честность Серова были известны всем. «И, может быть, в нем был не столько художник, как ни велик он был в своем искусстве, сколько искатель истины»,— писал о Серове его ближайший друг Константин Коровин. Когда чиновники московского Училища живописи, ваяния и зодчества не допустили к работе из-за политической неблагонадежности Анну Голубкину, профессор училища Серов демонстративно вышел в отставку. Он считал, что Голубкина — «одна из настоящих скульпторов в России — их немного у нас». Это было после революции 1905 года, в период разгула реакции. Тогда же Серов в ответил на предложение одного предприимчивого друга сделать при царском дворе несколько портретов телеграммой: «В этом доме я больше не работаю».
Серов остался честным и в своей работе. А как это трудно портретисту, если он имеет дело с Нобелями, Победоносцевыми, Гиршманами, Голицыными или со светлейшими и царскими особами! Последние двадцать лет жизни Серова — почти сплошная, непрерывная борьба с заказчиками. Очень многие хотели увековечить себя кистью великого художника. Знали характер Серова, его всепроникающий глаз и все-таки шли к нему. От цепкого, исподлобья взгляда портретиста пытались скрыть свое нутро под светской маской, выверенной годами, старались не обнаружить своей духовной пустоты — и не удавалось.
Апатичное холеное лицо ничтожного князя Юсупова, сидящего на чистокровном арабском жеребце, безликая личина князя Павла Александровича в блестящем кирасирском мундире, волчья повадка фабриканта Михаила Морозова — все видел Серов…
В течение нескольких минут художник схватывал сходство с оригиналом, но требовал… девяноста сеансов. Три месяца непрерывной работы. Тут, конечно, трудно скрыть что-то от портретиста. В какие-то мгновенья подлинный характер, натура должны проявиться. Таких мгновений Серов ждал, и они определяли философию его портретов.
При Серове как-то возник спор о «скованности» портретиста. Художник, задетый за живое, недобрыми глазами смотрел на спорщиков и затем сказал, что увлекается «не самым лицом индивидуума, которого пишет (потому что это лицо нередко бывает или пошлым или малоинтересным), а той характеристикой, которую он сам может сделать на холсте характеристикой этого человека, его душевным складом».
Критик Сергей Глаголь вспоминает, как однажды, выходя с выставки, столкнулся с Валентином Александровичем Серовым.
— Что,— спрашивает художник — понравилось?
— Нет.
— Почему?
— Есть что-то странное в портрете, точно какая-то раскрашенная деревянная кукла, а не человек.
Серов ответил:
— Очень вам благодарен. Я именно это и хотел сделать: эта женщина и в самом деле только красивая деревянная статуя.
Перед каждым сеансом Серов волновался, словно новичок. Даже в последние годы жизни он, сделавший сотни портретов, работал, как перед экзаменом. С некоторыми моделями надо было еще и разговаривать. Для художника такие беседы были мукой, хотя он умел вести светский разговор. Наработавшись до изнеможения, Серов с трудом добирался до дому и валился на кровать. А потом с горькой усмешкой рассказывал другу о семейке заказчика: «Остановится вот этак, в позе своего папа, этакий поросенок, дегенерат, и говорит: «А у мамы вы нарисовали глаз кривой. Она совсем не такая!» А потом подойдет еще кто-нибудь из семьи и подтвердит слова молокососа».
Художник уходил от таких заказчиков в зоологический сад. Серов нежно любил всяческое зверье; по крайней мере там все честно. Серовские иллюстрации к басням Крылова остаются до сих пор непревзойденными.
 Иллюстрация к басне И.Крылова «Волк и журавль» 1898-1911 годы.
Иллюстрация к басне И.Крылова «Волк и журавль» 1898-1911 годы.
Создавая эти рисунки, художник ставил перед собой серьезные задачи: он решал характеры басенных персонажей. В Домотканове (ныне Калининской области) у своего друга Дервиза Серов обошел все окрестности в поисках подходящей кочки для басни «Волк и журавль»; он искал в лугах тощую крестьянскую коровенку для басни «Крестьянин и работник». А для басни «Ворона и лисица» нашел нужную ему ель и рисовал, взобравшись на высокую лестницу, чтобы оказаться на уровне воображаемой вещуньи.
Совершенно преображался Серов близких друзей. Он становился веселым, добродушным. Почти не знавший в детстве семейного уюта, художник ценил простое человеческое участие. Отец его, оперный композитор, автор «Юдифи» и «Рогнеды», умер, когда Серову было только восемь лет. Его молодая мать ездила по Европе для продолжения своего музыкального образования и возила за собой сына, устраивая его ненадолго то тут, то там. И когда десятилетний белокурый мальчик в тесной тирольской курточке приехал в 1875 году в Абрамцево, он нашел здесь много добрых друзей. Хозяйка дома Елизавета Григорьевна Мамонтова с тех пор стала самым дорогим человеком для Серова. В семье Мамонтовых он обрел то, чего ему недоставало раньше.
В одном из неопубликованных писем Серова к Е. Г. Мамонтовой есть горькие слова. 6 января 1889 года он писал о матери: «Еще одно больное место: холодность моя к ней. Она права, нет во мне той теплоты, ласковости к ней, как ее сына. Это правда и очень горькая, но тут ничего не поделаешь. Я люблю и ценю ее очень как артиста, как крупную, горячую, справедливую натуру, таких не много, я это знаю. Но любви другой, той спокойной, мягкой, нежной любви нет во мне. Если хотите, она во мне есть, но не к ней, скорее к Вам. Странно, но это так. Мне кажется, Вы знаете это, Вы не можете этого не знать».
Там, в Абрамцеве, Серов и стал художником. В Абрамцеве написан портрет Веры Мамонтовой — «Девочка с персиками».
В декабре 1888 года портреты В. Мамонтовой и М. Симонович («Девушка, освещенная солнцем») появились на выставке в Москве; в газетах заговорили о новом выдающемся таланте…
Серов задумывался над труднейшими вопросами художественной формы. Его отношение к исканиям молодых художников порой удивляло друзей. Однажды на выставке, глядя на «очень странную картину с совершенно розовыми женщинами», Серов сказал: «Вам не нравится? Напрасно, тут все-таки что-то есть».
Художник не любил высказываться об искусстве, он больше размышлял. Поэтому каждое слово Серова выношено и выверено. В письме из Парижа 20 ноября 1909 года, адресованном жене, Серов писал: «Матисс, хотя и чувствую в нем талант и благородство,— но все же радости не дает и странно: все другое зато делается чем-то скучным,— тут можно попризадуматься».
Врубель когда-то мечтал написать сирень зеленой краской. Серов тоже любил живописные эксперименты, но- он не ограничивался ими. Форма никогда не была для него самоцелью, хотя в каждом портрете он искал тот единственный композиционный прием, который исчерпывающе выражал мысль художника. А главное, то, что для иных крупных художников было главной творческой задачей,— проблемы цвете, ритма, пространства, линии,— Серов осуществлял в процессе создания большого, общенародного искусства.
Одно время Серова считали правоверным участником объединения художников при журнале «Мир искусства».
Серов до 1903 года деятельно помогал журналу, участвовал в выставках, хотя и тогда руководители объединения отлично понимали, что «Антона», как его звали близкие, не собьешь ни в ту, ни в другую сторону, что он «в принципе ненавидит всякие общества».
Позиции Серова и его друзей по «Миру искусства» очень разнились. Дягилев в своей статье в 1899 году называл опасными отклики художника на такие народные бедствия, как голод и холера… А Серов в то же самое время выставлял рисунок под названием «Безлошадный».
Не ужился Серов и в Товариществе передвижников. Художнику претила всякая канцелярщина, а бюрократизация постепенно разъедала Товарищество, осложняя отношения старших и младших передвижников. Репин возмущался в письме к Савицкому: «Я бежал из Академии от чиновников — у нас возникла своя бюрократия. Я не могу…» Прежней творческой атмосферы в Товариществе уже не было: для того, чтобы перевесить картину, Поленов должен писать заявление…
Дело, конечно, не в объединениях, а в том, что Серов стремился понять самые важные вопросы времени. Еще Крамской мучительно раздумывал о передовом мировоззрении художника, о той песне, при звуках которой забились бы восторгом все сердца слушателей. На рубеже двух веков эта песня раздалась на рабочих баррикадах, но Серов не услышал ее. Он, как чеховский Тузен-бах, верил, что лет через двести— триста жизнь на земле будет прекрасна. И художник работал для этой жизни. Он говорил ученикам: «Надо так писать, чтобы мужик понимал, а не барин».
…Всемирно известная картинная галерея Уффици, во Флоренции заказывала Серову автопортрет. Кто из художников не мечтал о том, чтобы его произведение попало в Уффици и стало в один ряд с полотнами Леонардо, Рафаэля, Тициана! Но Серов так и не успел сделать автопортрет. Написавший столько картин, увековечивший своей кистью столько людей, сам он остался без портрета. Как это похоже на Серова…
В.Воронов.
Портрет, репродукция которого перед вами, принадлежит кисти великого русского живописца Валентина Александровича Серова. Тем не менее вряд ли кто его видел, он таится в запасниках Третьяковской галереи. Почему? Вероятно, по. единственной причине: это портрет царя Николая II.
Год назад, чтобы напечатать эту репродукцию, требовалось обладать сверхсмелостью и большим революционным запалом. Теперь уж смелости не требуется: о царе много написано, о гибели царской семьи снимается фильм. Больше того, царь вновь стал фигурой в политических играх! Кто-то, увидев нашy публикацию, сразу начнет смекать: «Так! За кого они: за тех или за этих?» Поэтому разъясняем: предлагая вернуть серовский портрет Николая II музеям, мы преследуем цели не политические, а культурные. Свою историю и культуру надо знать!
Заодно (отметив, что Серов польстил царю, изобразив его слишком своим, народным, демократичным, как бы солдатом отечества) отметим и то. насколько все-таки реализм начала века отличался от «придворного реализма» более близких к нам времен. Кто будет рассматривать портреты Сталина или Брежнева как произведения искусства? А это… забудем на минуту, что царь… ПОРТРЕТ ведь!
19 января 1865 года, родился Валентин Александрович Серов. Он не унаследовал музыкальные способности своих родителей (оба они были композиторами) — его на всю жизнь увлекла музыка цвета и красок. Своим трудом и талантом он завоевал славу выдающегося русского живописца. Уже в 22 года написал «Девочку с персиками» — признанный шедевр мировой портретной живописи. А сколько их было потом -портретов знаменитых людей России: Шаляпина, Ермоловой, Горького, Левитана, Лескова. Сколько было талантливо исполненных пейзажей, картин на исторические, библейские сюжеты!
Его учили знаменитые учителя — Илья Репин и Павел Чистяков. Академик живописи Валентин Серов достойно продолжил их дело, воспитав таких корифеев, как М.Сарьян, К. Юон, П.Кузнецов, К.Петров-Водкин.
Девочка с персиками. 1887 год.
Блестящие тёмные волосы, свидетельствующие о сбалансированном питании и хорошем кровоснабжении, смуглая (кровь с молоком), нежная, бархатистая кожа (цвет лица зависит от работы желудка, кишечника и состояния кровеносных сосудов), живые глаза цвета чёрной смородины (говорящие о здоровой психике), яркие полные губы (признак отменной работы органов внутренней секреции) — всё это свидетельствует о том, что девочка вступает в жизнь, не имея тяжёлого багажа проблем со здоровьем.
ИЗ ИСТОРИИ
На картине изображена Вера Мамонтова, дочь известного мецената Саввы Мамонтова, в поместье которого сложился так называемый Абрамцевский кружок художников. Эту очаровательную девушку впоследствии писали многие художники, в том числе и Виктор Васнецов, крайне не любивший портретный жанр. Его картина «Девушка с кленовой веткой» так понравилась Вере Саввичне, что она уговаривала художника продать её, суля немалые деньги. «Я подарю те0е этот портрет, если выйдешь замуж за русского», — пообещал художник девушке, которая много времени проводила за границей. Васнецов выполнил своё обещание и презентовал Вере картину в качестве свадебного подарка (она вышла замуж по взаимной и глубокой любви за дворянина Александра Самарина). Кстати, во время венчания на невесте было то самое платье, в котором она позировала Васнецову.
Помните картину Валентина Серова «Девушка, освещенная солнцем»? Молодой художник написал свою двоюродную сестру Машу Симонович. Было это в 1888 году. Как же сложилась судьба «девушки, освещенной солнцем»? Выйдя замуж, она уехала во Францию. Прошли годы и годы… После окончания второй мировой оойны Мария Яковлевна прислала свой дневник (1939 — 1945 гг.) в Москву родным.
Ее сестра И. Я. Симонович-Ефимова (1877-1948 гг.) — известная художница.
В 1918 году по призыву Наркомпроса супруги Ефимовы создали театр кукол и силуэта. Сами придумывали для него персонажи, сами играли, объездив с веселым балаганчиком всю российскую глубинку. Любимые куклы детворы того времени: добрый Петрушка, герои сказок Пушкина, Андерсена, басен Крылова. Театр Ефимова просуществовал до 1940 года, сыграв за это время 1000 представлений.
К нам в «Гостиную* Иван Ефимов пришел с дневником Маши Симонович, дневником «девушки, освещенной солнцем».
Он начал тихо читать.
Дневнин Марии Яковлевны Симонович.
1943 ГОД. Мне 78 лет, но живу еще, хотя чувствую, что кончина где-то здесь, близко… Самое мое большое желание: это приехать в Россию, если не пожить, то по крайней мере взглянуть на всех вас.
1944 ГОД. Май. Через месяц мне 80 лет.Моё нетерпение окончания войны дошло уже до крайнего предела. Нам грозят оставить без света, без газа, без воды, без электричества.
Наконец, без еды… Газ дается от б до 8 утра, и от 7—8 вечера —электричество.
…Уже даа года ничего нельзя найти. За 700 франков масло. за 180 —сахар, за 425 —чай и т. д. Особенно отсутствие жира заставляет страдать. Не знаю, удастся ли увидеть всех вас и Россию?
У меня нет никакой провизии, карточек не видела уже три месяца… Питаюсь одним супом из муки без масла. Рисую соседку по квартире,
22 АВГУСТА. Все тихо с утра. Немцы еще здесь.
27 АВГУСТА. Вчера был большой праздник _ шествие по Елисейским полям. Весь освобожденный Париж был там, и вдруг этот праздник был предательски бомбардирован немцами.
Сегодня закончила русский флаг, который красуется в окне. сделаю другие для желающих.
30 АВГУСТА. На улицах еще видны баррикады — деревья бульваров спилены. У меня в окне два знамени — французское к русское, сама сделала.
9 МАЯ 1945 ГОДА. Много воды утекло с тех пор. Вот и дожила наконец до окончания войны. Вчера, 8 мая, был незабвенный День. Яркое солнце, все в движении. На улицах незнакомые мне люди целуются, обнимаются.
Иван Ефимов
В своих воспоминаниях Игорь Грабарь рассказывает. что в ноябре 1911 года, когда в Третьяковской галерее меняли местами картины, он попросил Валентина Александровича серова зайти взглянуть, как смотрятся на новом месте его полотна. Особенно выиграла от перемещения, как он считал, «Девушка, освещенная солнцем». Серов долго стоял перед своим ранним созданием, а потом сказал: «Написал вот эту вещь, а потом, всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло…»
Слова эти, сказанные художником незадолго до смерти, поразили Грабаря и отчетливо запомнились ему.
-И действительно,— утверждал он,—эта вещь была создана в минуту необычайного подъема, в редчайшем, подлиннейшем экстазе».
..Лето 1888 года Серов решил провести в Домотканове — имении своих родственников Симоновичей, расположенном в шестнадцати верстах от Твери. Он заранее предвкушал все летние удовольствия и, главное, возможность много работать. Хотя Серову в ту пору было только двадцать три года, он чувствовал, что должен идти в искусстве собственным путем. Живописи он начал учиться очень рано. В восемь лет уже брал уроки у художника Кеппенинга в Мюнхене, а в девять стал учеником Ильи Ефимовича Репина, который поражался невероятной усидчивости ребенка, решительности и смелости его рисунков, беспощадности в переделке готовых работ. «Я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве»,— вспоминал впоследствии Репин. Почти ежедневно общаясь со своим учеником, мастер никогда не требовал от него подражания себе и не переставал восхищаться его талантом: «Искусство Серова подобно редкому драгоценному камню: чем больше вгпядываешься в него, тем глубже он затягивает вас в глубину своего очарования…»
Репин, конечно, понимал, что. кроме способностей, у мальчика была возможность, которой не было у него самого да и у большинства русских художников: с самых ранних лет воспитывать свой художественный вкус, развивать эстетическое чутье.
Валентин родился в семье известного композитора Александра Николаевича Серова. Мать его была замечательным музыкантом, энергичной общественной деятельницей. Вместе с ней Тоша (так звали в детстве художника) ездил по Германии, жил некоторое время в Париже, а с десяти лет подолгу гостил в Абрамцеве, где в то время собирались и работали лучшие русские художники. Не удивительно, что впоследствии его вкус был признан абсолютным. Серое ненавидел в искусстве пошлость, банальность, все нарочитое, выспреннее, всегда стремился к предельной простоте и естественности. Он считал, что правда и поэзия в искусстве нераздельны, что истинную красоту надо искать в обыкновенном.
В Домотканово в то лето съехалось много молодых людей. И, как бывает, когда вместе собирается молодежь, тут царила атмосфера влюбленности. И сам художник был влюблен в Лелю Трубникову, воспитанницу семьи Симоновичей,— через год она стала его женой и верной спутницей на всю жизнь.
Серов писал «Девушку, освещенную солнцем» несколько часов по утрам и после обеда. Моделью его была двоюродная сестра Маша. Почему он выбрал ее?
Она, правда, была привлекательной девушкой, но отнюдь не красавицей. Круглолицая, большеглазая, с тонкой кожей, сквозь которую проступал яркий румянец, такую в толпе не выделишь — обыкновенная девушка из интеллигентной разночинной семьи (отец Маши был врачом). Но обыкновенность и привлекла молодого художника. Запечатлеть скрытую, незаметную для всех прелесть обычного—это казалось ему наиболее интересным.
После первых же сеансов Серов понял, что «Маша — идеальная модель. Она замечательно позировала. Может быть, потому, что девушка понимала всю важность позирования. Она сама готовилась поступать в художественное училище (впоследствии стала скульптором).
В воспоминаниях, написанных в глубокой старости (Мария Яковлевна умерла в 1955 году), она рассказывает, что каждый сеанс был похож на торжественный акт: «Усаживаясь с наибольшей точностью на скамье под деревом, он руководил мною в постановке головы, никогда ничего не произнося, а только показывая рукой в воздухе со своего места, как на полмиллиметра надо подвинуть голову туда или сюда, поднять или опустить. Вообще он никогда ничего не говорил, как будто находился перед гипсом. Мы оба чувствовали, что разговор или даже произнесенное какое-нибудь слово уже не только меняет выражение лица, но перемещает его в пространстве и выбивает нас обоих из того созидательного’ настроения, в котором он находился, которое подготовлял заранее, которое я ясно чувствовала и сберегала, а он сохранял его для выполнения той трудной задачи творчества, когда художник находился на высоте ее…»
Серов писал в саду, ветер шевелил листву, от этого беспрестанно менялось освещение, а вместе с ним тона и оттенки кожи, волос, платья. И все эти изменения он хотел передать, потому что перед ним была живая жизнь, где все связано воедино — игра солнца, ветра, задумавшаяся Маша, вчерашний спор по поводу занятий в земской школе, его собственная любовь к Леле и переполнявшее ощущение | молодости, веры в свое призвание.
Он как будто впервые увидел, что отбрасываемая деревом на траву тень, которой положено быть зеленой, кажется насыщенно-синей, а освещенная солнцем листва по цвету похожа на расплавленное серебро, белая кофточка сияет зелеными, желтыми, перламутровыми оттенками, а синий цвет юбки вдруг становился таким глубоким, что кажется, его и не передать. А потому художник не смешивал, как обычно, краски на палитре, работал чистыми цветами, что создавало совершенно особей зрительный эффект.
В сущности, он писал в манере импрессионистов, хотя в то время еще не был знаком с их творчеством и все его поиски были совершенно самостоятельными. Позднее именно за этот портрет Серова называли «первым pyсским импрессионистом», хотя это неверно. Много отличало Серова от тех. кто главным творческим импульсом считал впечатление и прежде всего с годами все более выявлявшееся социальное начало его творчества. Каждый из написанных им впоследствии портретов являл собой не только глубокую психологическую характеристику лица, которое он писал, на самое важное, дух эпохи. Создавая портреты знатных аристократок — Юсуповой. Орловой, Акимовой,— которые считаются живописными шедеврами, Серов, как чеховский Петя Трофимов из «Вишневого сада», никогда не забывал, что предки этих женщин были крепостниками, что за каждым деревом в их роскошных садах можно при желании увидеть лица засечённых насмерть мужиков… Писание портретов. которые прославили Серова, было для него мучительным, как он говорил, подобием болезни.
Но тогда, в Домотканове, он pa6oтал с упоением. Погода стояла ровная, можно писать каждый день все три месяца, каждым мазком делать все новые открытия, все больше постигать красоту, переживая мгновения настоящего счастья.
Л. ОСИПОВА
Валентин Серов работал быстро, иногда слишком быстро. А здесь 80 сеансов, и то нравилось ему. то нет. Раздражался, писал жене: «Жаль, мы не очень с княгиней сходимся во вкусах… Странно. Вот приедут господа, посмотрят, что мы написали, уверен, придется не по вкусу — ну, что делать — мы ведь тоже немножко упрямы — да». И вот портрет: то слишком хороша, то какой-то жесткий костяк проглядывает. Будто свет бьется о какие-то углы и не успокаивается, не находит места себе. А прошли годы, и ясно стало. что в этом и суть — и в свете, и в углах, и в непримиримости их. и в соединении. Юсуповым портрет не понравился, хотели вырезать из него овал, не решились — на радость нам.
 Портрет Зинаиды Юсуповой. 1900-1902 годы.
Портрет Зинаиды Юсуповой. 1900-1902 годы.
Он был одним из самых знатных, богатых и красивых людей планеты. Он совершил самое знаменитое убийство века, и ничего ему за это не было. Он прожил долгую, полную приятных приключений жизнь и умер в старости в Париже, окруженный любящими родными и поклонниками. Нет, ты не хотел бы поменяться с ним биографией.
Детство
Имя «Феликс» означает «счастливчик». Но если большинство граждан называет так младенцев в основном в приступе отцовского и материнского оптимизма, то родители князя Феликса Юсупова, скорее, просто констатировали факт. Угукающий в шелковых пеленках малютка принадлежал к знатнейшей и богатейшей семье Российской империи. Никаких неприятностей, связанных с воспитанием «настоящих аристократов», ни Феле, ни его старшему брату Нико-лаше испытать не пришлось: их мать, княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, обожала своих малышей и баловала их сверх всякой меры. Эта высокородная красавица, которую воспитывали как будущую царицу, невесту одного из европейских монархов, расстроила своих родных, выйдя замуж за простого графа Феликса Сумарокова-Эльстона и предпочтя частную семейную жизнь роли государственной деятельницы. Так как была она последним представителем рода Юсуповых, императорским указом ее мужу присвоили фамилию и титул супруги, и он всю жизнь, по свидетельству очевидцев, относился к Зинаиде Николаевне с большим почтением, чем обычно свойственно мужьям по отношению к женам. Во всяком случае, князь не смел вмешиваться в дело воспитания своих сыновей, а матушка растила их нервными, чувствительными и безудержно эгоистичными. Надо сказать, что Зинаида Николаевна вообще была мастером распускать людей вокруг себя до крайней степени. Ее снисходительность к тем, кто так или иначе попал под ее опеку, доходила до крайности. Князь Феликс вспоминал, что матушка всегда была окружена целым выводком всяких компаньонок, приживалок и чьих-то тетушек, которые ровным счетом ничего не делали, нередко обладали вздорным характером и тем не менее благополучно кормились от щедрой руки княгини. Феликс любил рассказывать историю про приживалку Аннушку, которая четверть века прожила при княгине. Единственное, что должна была делать Аннушка, — это хранить княгинину горжетку из чернобурки и следить, чтобы ее не поела моль. Когда же Аннушка от старости скончалась, коробку с горжеткой вскрыли. Никакой чернобурки там не оказалось, лежала только записка:
«Господи, прости и помилуй рабу твою Анну за все прегрешения ее — вольные и невольные!»
Папенька, как человек военный, отличался более крутым нравом, но до детей его допускали редко. Лишь дважды юному Феле пришлось узнать силу отцовского гнева.
Первый раз — когда лет в двенадцать он в одном из будуаров усадьбы Архангельское (также бывшей собственностью семьи Юсуповых) устроил себе «двор турецкого паши». По требованию Фели нашили восточных костюмов, в будуаре всюду расстелили ковры и раскидали подушки, отозванные с домашних работ лакеи и горничные были переодеты в невольниц и невольников. Сам Феля в голубом халате возлежал на подушках под опахалами — шла репетиция сцены, в которой он собственноручно закалывал отцовским коллекционным кинжалом полуобнаженного провинившегося раба. Роль раба исполнял один из слуг — египтянин по происхождению. Но в момент, когда Феля готовился пронзить несчастному сердце, дверь открылась и в комнату вошел отец, доселе не посвященный в затею. Мгновенно оценив обстановку, старший князь издал хриплый рык и кинулся на сынка, так что тот, путаясь в длинном халате, едва успел улизнуть от карающей отцовской длани.
Скандал
Второй случай произошел четыре года спустя, когда Феликс, будучи учеником гимназии, вместе с приятелями-студентами участвовал в серии розыгрышей с переодеваниями. Миловидного, еще не брившегося Феликса нарядили певичкой и устроили ему ангажемент в «Аквариуме» — самом шикарном из петербургских кабаре. Густобровая, румяная и пикантная шансонетка понравилась публике. Прекрасная инкогнито (на афишах вместо имени певицы стояли звездочки) дала шесть концертов, а потом кто-то из компании проговорился, по городу поползли слухи и дошли в конце концов до Юсупова-старшего. Скандал был ужасен. Отец сказал сыну, что место ему в Сибири, на каторге, ч то он негодяй и мерзавец и вообще больше не сын.
Бурный период
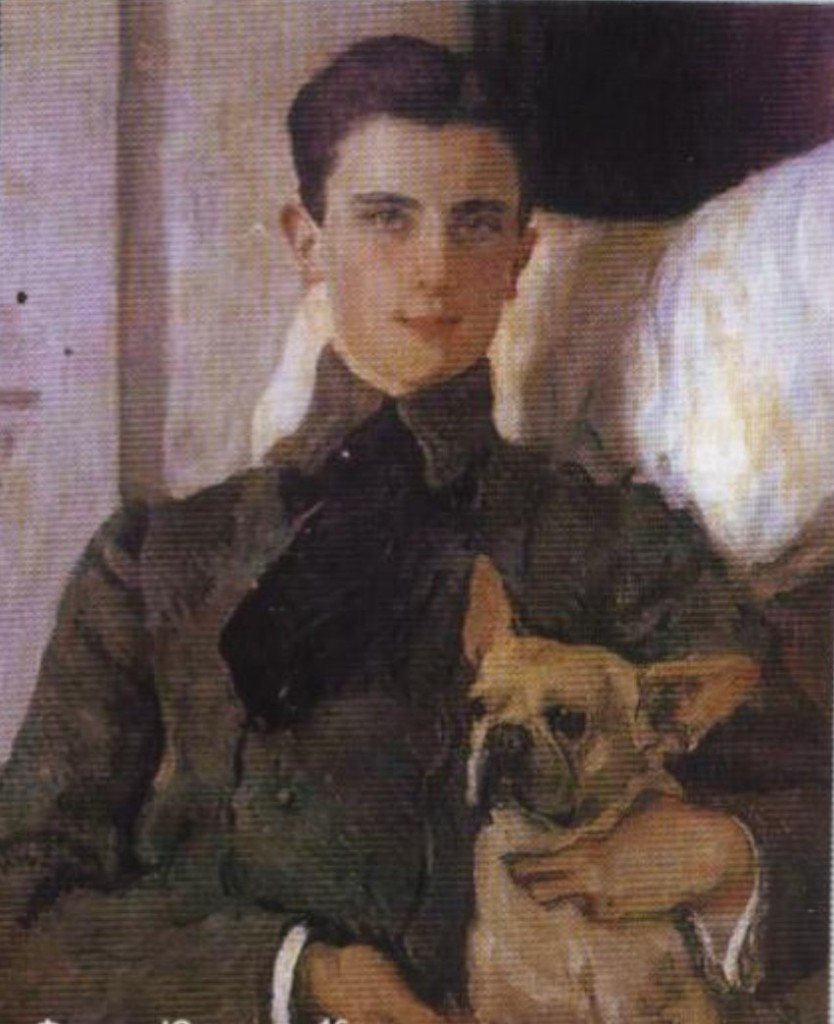 Феликс Юсупов. 16 лет. 1903 год.
Феликс Юсупов. 16 лет. 1903 год.
Знаменитый портрет кисти Серова запечатлел юного Юсупова как раз в этот период жизни. Красивый, холеный юноша пренебрежительно смотрит на зрителя, лаская своего французского бульдога Клоуна. И не сразу решишь, кто выглядит надменнее — бульдог или его хозяин. Серов был большим другом Юсупова, но одновременно и очень талантливым художником, кисть которого не умела лгать. Пройдет три года — и этот портрет сыграет важную роль в жизни Феликса.
А пока семья спешно тушит скандал, вызванный неосторожными развлечениями юного князя. Мать и брат выгораживают его перед отцом. Император и императрица защищают отпрыска благородной фамилии своим вниманием -приглашают Феликса ко двору и беседуют о его будущем. Увы, сомнительная история безнадежно испортила его репутацию: многих молодых людей осторожные родители отговаривают от дружбы с князем.
Но он не делает ровно никаких выводов из происшедшего. Поочередно Москва, Петербург, Ялта, Париж бурлят слухами о разгульном веселье семнадцатилетнего Юсупова, о его сумасбродных выходках, мотовстве и попойках в дорогих публичных домах. Старики говорят, что ничего удивительного тут нет: если не брать матушку его, то все Юсуповы славились любовыо к разврату и гульбе. Ну да, он разъезжает в Великий пост с французскими танцовщицами и цыганками на тройках. Так прадед его вообще свой крепостной театр имел — с сотней наложниц! Феликс торопится успеть все. Любое модное веяние принимается им на ура. Он поочередно страстно увлекается спиритизмом, фотографией, театром, даже курением опиума (к наркотикам он будет потом неравнодушен всю жизнь, но без фанатизма). Единственное из светских удовольствий, которое он не любил, -это охота. Один раз съездив на гон русаков и услышав, как отчаянно кричит подстреленный им заяц, Юсупов испытал к охоте такое отвращение, что ружье брал в руки только в тире, а по живой мишени больше никогда не стрелял (нет, стрелял один раз, но намного позже).
Брат
И тут случилось несчастье: на дуэли погиб брат Феликса, Николай. Так Феликс стал единственным наследником имени и состояния Юсуповых.
Дальше начинается самое интересное. Почти сразу после похорон брага Феликс испугался чувства радости, которое он испытал при мысли о том, что все сокровища семьи будут принадлежать только ему. Брата он любил и теперь отчаянно анализировал свое состояние. Приговор, который он вынес себе, звучал жестоко: «подлец, никчемный и самовлюбленный».
Именно в те дни Феликс несколько часов просидел перед серовским портретом, вглядываясь в свой образ и испытывая все большее и большее омерзение. Некоторое время он предавался самобичеванию, а потом составил список дел и задач, которые ему надлежало выполнить, чтобы иметь право называться достойным человеком. План был прекрасен: 1. Получить наилучшее образование. 2. Стать рачительным хозяином, улучшить жизнь рабочих и крестьян. Часть собственности раздать работникам, превратить их в акционеров. 3. Много и радостно заниматься благотворительностью. 4. Покровительствовать искусствам — превратить Архангельское в культурный центр, где бы жили, отдыхали и работали художники, артисты, музыканты, писатели.
Валентин Александрович Серов (1865—1911) родился 125 лет назад, прошло уже почти восемь десятилетий с тех пор, как он умер. Русское искусство понесло невосполнимую утрату, лишившись в его лице выдающегося живописца и рисовальщика, превосходного портретиста и пейзажиста, иллюстратора и театрального художника. Не найдется, пожалуй, ни одной области искусства (разве что архитектура), в которую В. А. Серов не внес бы значительного вклада, во многом определившего «художественный облик» его времени. Человек, сдержанный, немногословный, подобно А. Чехову, он обладал редким, поистине уникальным даром говорить коротко о сложных вещах. Рассчитанно-скупо пользуясь выразительными средствами живописи, графики, он в своих лучших произведениях достигал невиданной силы художественного обобщения.
Ученик И. Репина и П. Чистякова воспитанный на самых высоких образцах мировой и национальной классики, Серов начинал свой творческий путь в 80-е годы, когда далеко еще не сказали своего последнего слова «старики»-передвижники. В это время на смену народникам приходили первые русские марксисты, а в среде молодой национальной буржуазии, как бы предчувствовавшей, что ее исторический путь будет не долог, зарождалась идеология крайнего индивидуализма.
Взгляд Серова на Россию «глухих времен» (А. Блок) — конца прошлого — начала нынешнего века — был и просветленно печальным в произведениях лирических, и саркастическим в беспощадных характеристиках не только отдельных лиц или явлений жизни, но благодаря широчайшей социально-образной типизации эпохи в целом. В 1905 году им был создан целый ряд произведений героико-романтического строя. Наряду с М. Врубелем, К. Коровиным, А. Блоком, А. Чеховым, М. Горьким, А. Скрябиным, К. Станиславским, М. Ермоловой, Ф. Шаляпиным и др. он явился одним из творцов художественной культуры России последних предреволюционных десятилетий, времени сложного и глубоко противоречивого, когда были созданы произведения, и сегодня продолжающие если не поражать, то уж во всяком случае привлекать к себе внимание неведомой прежде русскому искусству остротой, а подчас и парадоксальностью «формальных» решений. Резко выраженное несходство творческих индивидуальностей было едва ли ни главным стилистическим признаком искусства бурной эпохи, которая формировала личность Серова и на которую он сам как художник оказал активное воздействие, оставаясь при этом человеком цельным, ни при каких обстоятельствах не изменявшим своим убеждениям и творческим принципам, смелым новатором и одновременно одним из подлинных классиков.
Начало пути
Валентин Александрович Серов родился 7 (19 по н. ст.) января 1865 года в Петербурге в семье известного композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова (1820—1871) — младшего современника М. Глинки и А. Даргомыжского, автора опер «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Мать будущего художника Валентина Семеновна Серова (1846—1924) также была композитором (ее наиболее значительные произведения — оперы «Уризль Акоста» и «Илья Муромец»), страстным пропагандистом музыки. Яркий артистический темперамент отца, просветительские, народнические идеи матери, атмосфера творчества, горячие споры о судьбах русского искусства — все это оставило заметный след в сознании маленького «Антона — Тоши». Так значительно чаще, чем Валентином, называли Серова в детстве, а для ближайших друзей он останется «Антоном» до конца жизни.
Вскоре после скоропостижной кончины А. Серова мать увезла сына в Германию, в Мюнхен. К этому времени художественные наклонности мальчика выявились столь определенно, а его первые детские опыты были так серьезны, что немецкий художник Карл Кёппинг согласился давать ему уроки живописи, брал с собой на этюды, а в залах одного из лучших европейских музеев — мюнхенской Старой Пинакотеки — перед полотнами великих мастеров Тициана, Веласкеса и др. вел с ним обстоятельные и вполне профессиональные беседы «о колорите, формах, линиях». «Мольберты, кисти, альбомы, — позднее напишет Валентина Семеновна, — входили в обычную нашу обстановку; рисовали на вольном воздухе, в комнатах, даже в кухне, и всегда всерьез, с требованием истинного искусства». Его рисунки были показаны скульптору Марку Матвеевичу Антокольскому, а тот порекомендовал в качестве учителя Илью Ефимовича Репина, после окончания петербургской Академии художеств жившего в Париже в качестве ее «пенсионера». Убедившись в незаурядных способностях мальчика, любуясь «зарождающимся Геркулесом в искусстве», Репин, занимаясь с ним, не делал, однако, скидок на возраст, в чем, впрочем, его настойчивый и упорный в работе девятилетний ученик вовсе не нуждался. Вторично он работал под руководством И. Репина в 1879—1880 годах, копировал отдельные его произведения, много рисовал, писал маслом и акварелью, в некоторых работах не только достигая уровня учителя, но и обнаруживая несомненные признаки яркой творческой индивидуальности. В 1880 году одновременно с Репиным, трудившимся тогда над картиной «Крестный ход в Курской губернии», он написал портретный этюд «Горбун», о котором сам впоследствии говорил, что эта его ранняя работа была, «пожалуй, не слишком уж детская». Репинский образ «юродивого-провидца, калеки, одухотворенного страданием», был воплощением народных чаяний, во многом не ясных самому художнику. Серов же на первый взгляд всего лишь по-ученически «копировал натуру», точно фиксируя всю непривлекательность облика горбуна. Однако в отличие от учителя он создавал его образ не на основе априорного просветительского идеала, но шел непосредственно от «натуры». Так зарождался во многом новый для русского искусства тип портрета-«характеристики», в котором индивидуальные качества модели служили основой широкой социально-художественной типизации. И все же, несмотря на несомненные успехи, ему было необходимо получить более углубленное и систематическое художественное образование. В конце 1880 года Репин отправил Серова в Петербург в Академию художеств к Павлу Петровичу Чистякову, крупнейшему тогда русскому художнику-педагогу, у которого еще не так давно учился сам. Старая академическая профессура Чистякова недолюбливала, видя в нем новатора, подрывающего ее консервативные устои, он же стремился воспитать в молодых сознательное и ответственное отношение к своему делу, высокую принципиальность и верность своим убеждениям. Знаменитая «система Чистякова» строилась на строго индивидуальном подходе к каждому ученику, на стремлении выявить и максимально развить особенности его дарования. Кроме того, во всей тогдашней академии только он один, по словам В. И. Сурикова, мог указать «путь истинного колорита». Серова же, прирожденного колориста, Чистяков «муштровал» главным образом в области рисунка. «Какой молодец Антон! Как он рисует! Талант, да и выдержка, чертовские!.. Антон да еще Врубель — вот тоже таланты. Сколько любви и чувства изящного! Чистяков хорошие семена посеял, да и молодежь это золотая!!!» — писал И. Репин в 1882 году В. Поленову. В 1881 году Серов исполнил графический портрет П. Чистякова. Высокий упрямый лоб учителя, острый, пронзительный взгляд его небольших, глубоко сидящих в орбитах глаз — образ человека убежденного, полного внутренней энергии создан скупыми, лаконичными средствами.
Неустанно повторяя своим ученикам: «Простота — высота» и при этом как бы ставя между этими словами «знак равенства», Чистяков тем самым определял сверхзадачу на всю их последующую творческую жизнь. Справиться с ней смогли лишь очень немногие, наиболее талантливые, в первую очередь Серов и Врубель, между которыми были весьма существенные различия: Серов развивался, если можно так сказать, в направлении от Репина к Чистякову, причем жизнеутверждающее репинское начало очень долго, почти до конца жизни входило важной составной частью в образный строй его искусства. Врубель же, будучи старше своего друга на целых девять лет, как художник «начинался» непосредственно с «системы Чистякова». При этом некоторые способы построения формы, прежде всего ее «гранение», ‘которое у Чистякова было лишь средством для выявления объема головы, фигуры, у Врубеля превратилось в едва ли ни в важнейший прием, позволявший усиливать экспрессивность образа, а также усиливать энергию цвета.
Форме эти молодые художники 80-х годов вообще придавали очень большое значение. М. Врубель (строки из письма которого мы цитируем) считал, что в работах большинства их старших современников «форма, главнейшее содержание пластики» была «в загоне — несколько смелых, талантливых черт, и далее художник не вел любовных бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже напечатлеть свою тенденцию в зрителе». Прекрасно сознавая, что «художники без признания их публикой не имеют права на сущестование», Врубель, однако, утверждал: «Но признанный, он не становится рабом: он имеет свое самостоятельное, специальное дело, в котором он лучший судья, дело, которое он должен уважать, а не уничтожать его значения до орудия публицистики. Это значит надувать публику… Пользуясь ее невежеством, красть у нее то специальное наслаждение, которое отличает душевное состояние перед произведением искусства от состояния перед развернутым печатным листом. Наконец это может повести к совершенному даже атрофированию потребности в такого рода наслаждении. Ведь это лучшую частицу жизни у человека украсть!» (Выделено мной. — В. Р.) Категоричную оценку искусства передвижников Врубель дал, высказываясь по поводу картины И. Репина «Крестный ход в Курской губернии», которая тогда, в 1883 году, экспонировалась на XI выставке Товарищества передвижников. Трудно сказать, в какой мере разделял Серов его мнение, но думается, что, не во всем с ним соглашаясь, по крайней мере по отношению к Репину, в целом же он придерживался точки зрения Врубеля. Однако представители следующего после передвижников поколения русских художников в главном никогда не отрекались от исконных задач национального искусства. Придет время, и они, каждый по-своему, будут стремиться «поглубже напечатлеть свою (выделено нами. — В. Р.) тенденцию в зрителе». Однако в отличие от большинства передвижников, нередко смешивавших понятия «тенденциозность» и «обличительство», эти молодые мастера стремились выразить поэтическое отношение к действительности вопреки ее непоэтическому содержанию, а если современность не давала им соответствующего жизненного материала, то поэтический мир следовало создать в пределах картины,что, в свою очередь, побуждало их к углубленной работе над пластической формой. Присущий этим художникам полемический задор был вполне понятен: они сознательно бросали дерзкий вызов своему времени. Отсюда-то и родилось тогда ими самими во многом еще до конца не осознанное стремление к «отрадному».
Хочу отрадного!
Два последних года пребывания в Академии художеств (1884— 188S) для Серова были тягостны.
В 1884 году оставил занятия в Академии Врубель, которого известный тогда художественный деятель профессор А. В. Прахов пригласил в Киев для работы по реставрации живописи древнейших храмов Софийского собора и Кирилловской церкви, а также для участия в создании росписей строившегося тогда Владимирского собора, а в следующем, 1885 году ее покинул и Серов.
К его «последним академическим дням, — писал впоследствии выдающийся исследователь творчества В. Серова И. Грабарь, — относится… известный автопортрет Третьяковской галереи, в три четверти поворота вправо, с отделившейся на лбу прядью волос, — рисунок большой твердости и точности», в котором сквозь еще юношескую мягкость черт лица хорошо просматривается волевой характер двадцатилетнего художника. Вскоре вместе с матерью, в это время вторично овдовевшей, он уехал за границу — в Германию и Голландию. В мюнхенской Пинакотеке он написал превосходную копию с портрета юноши, приписываемого Веласкесу, в Амстердаме изучал произведения голландских художников XVII века.
Поздней осенью того же года в имении художника Н. Кузнецова под Херсоном он написал этюд «Волы», в работе над которым со всей определенностью проявил главные свойства своего характера — огромную выдержку и упорство в достижении цели. И. Грабарь вспоминал, как однажды он вместе с автором смотрел это полотно: «Серов сказал мне, указывая на своих «Волов»: — Ведь вот поди ты: дрянь, так, — картинка с конфетной коробки, желтая, склизкая, фальшивая — смотреть тошно. А когда-то доставила много радости — первая вещь, за живопись которой мне не очень было стыдно. Потел я над ней без конца, чуть не целый месяц, должно быть половину октября и почти весь ноябрь. Мерз на жестоком холоде, но не пропускал ни одного дня, — мусолил и мусолил без конца, потому что казалось, что в первый раз что-то такое в живописи словно стало разъясниваться». Можно предположить, что «Волы» были задуманы им под впечатлением от пейзажно-анималистических полотен «малых голландцев», подобно которым Серов стремился изобразить животных в нераздельной слитности с простым и непритязательным пейзажем: жухлая трава, сарай, крытый побуревшей от холодных осенних дождей соломой, барский дом, зеленая крыша которого на фоне хмурого свинцово-серого неба кажется серебристой, растрепанное ветром голое дерево, у телеги-кормушки два вола — белый, а точнее, грязно-бурый, и черный. Однако менее всего Серов помышлял о том, чтобы созданный им образ осенней природы рождал у будущего зрителя настроение безысходности. Напротив, сильные, полнокровные краски его этюда вызывают чувство спокойствия, ясности. Будучи, как и Врубель, верным служителем «культа глубокой натуры», ни на минуту не забывая о том, что «форма — главнейшее средство пластики», он упорно бился над решением новых для него живописных задач, родственных тем, что волновали импрессионистов, подобно которым он писал свой этюд прямо с натуры. Однако в отличие от еще не известных ему тогда французских художников Серов, стремясь сохранить впечатление непосредственного контакта с природой, столь же намеренно отказался от передачи якобы мимолетного взгляда на нее. Вряд ли кому-нибудь придет на ум, что вовсе не случайно он изобразил тряпку, брошенную на телегу, деталь на первый взгляд сугубо второстепенную. Но ведь это красное «пятно», оказавшись на пересечении основных «силовых линий» этюда, играет важную роль его композиционного и эмоционального центра, на что зритель, воспринимающий созданный художником образ природы, гармоничный вопреки изображению холодного, ветреного осеннего дня, даже не обратит внимание.
С детских лет большое место в жизни Серова занимала старинная подмосковная усадьба Абрамцево. В первой половине прошлого века она принадлежала известному писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, при жизни которого в ней гостили Н. Гоголь и И. Тургенев. В 1870 году ее купил Савва Иванович Мамонтов, предприимчивый промышленник, деятельный организатор русской художественной жизни.
В гостеприимном абрамцевском доме царила приподнятая творческая атмосфера. Яркая одаренность его хозяина С. Мамонтова («Савва Великолепный»), человека неуемной энергии, незаурядного поэта, драматурга, скульптора, привлекала талантливых людей: композиторов, артистов, литераторов, художников. Последних особенно сближала работа над декорациями и костюмами для постановок созданной им Частной оперы. Рядом с мастерами старшего поколения В. Васнецовым, В. Поленовым в ней участвовали и молодые — Исаак Левитан и Константин Коровин. С ними (а люди они были очень разные: Левитан — немного меланхоличный, Коровин, напротив, искрометно-темпераментный) сдержанный, временами угрюмый Серов подружился настолько, особенно с Коровиным, что скорый на всякие прозвища Мамонтов забавно переиначил их фамилии: вместо «Серов и Коровин» стал называть их «Коров и Серовин».
В мае 1887 года Серов вместе с новым своим приятелем пейзажистом Ильей Остроуховым и двумя племянниками С. И. Мамонтова уехал в Венецию. Вот несколько строк из его письма к невесте — Ольге Федоровне Трубниковой, воспитаннице своей тетки А. С. Симонович: «Милая моя Лёля, прости, я пишу в несколько опьяненном состоянии. Да, да, да. Мы в Венеции, представь… Хорошо здесь, ох как хорошо!» Откровенно признаваясь, что у него «совершенный дурман в голове» от любви, от Венеции, от «страстной, кровавой» оперы Верди «Отелло», от пения великого Франческо Таманьо, он все же не забыл о главном, о славных итальянских живописцах «XVI века, Ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть — беззаботным; в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».
Итальянские впечатления во многом определяли творческое самочувствие Серова, когда в конце лета того же 1887 года в Абрамцеве он работал над произведением, с которого начиналась его художническая известность, картиной «Девочка с персиками», создав в ней лучезарный образ юности, красоты, ставший прямым проявлением его тогдашнего взволнованно-поэтического отношения к миру. «Все, чего я добивался, — впоследствии говорил он, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил ее, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности (выделено мной. —B. Р.), — вот как у старых мастеров». Однако «сохранить свежесть живописи» для него в то же время значило сохранить свежесть того радостного чувства, с которым писалось это полотно, передать всю прелесть мимолетного впечатления, но при этом так «остановить мгновение», чтобы добиться «законченности», и поэтому, работая с натуры над потретом двенадцатилетней Веруши, дочери C. Мамонтова, он, помня уроки Репина и Чистякова, заведомо решал его как картину. Живая, непосредственная девочка-подросток позировала двадцатидвухлетнему художнику в залитой светом комнате, сидя у стола, покрытого белой скатертью, одетая в розовую кофту с приколотым на груди большим синим с белыми горошинами бантом и огромной красной гвоздикой. Свет льется из-за окна, за которым видна чуть тронутая осенней желтизной листва деревьев, «перетекает» в соседнюю комнату. Картина как бы соткана из света и воздуха. В решении этой задачи колорит картины играет самую активную роль: белая скатерть, светлые стены комнаты, розовое «пятно» кофты в центре, а если учесть, что у Серова и белое — не белое, и розовое — не розовое, но все в рефлексах, что каждый участок живописной поверхности дополняет и обогащает соседствующие с ним и что в передаче ощущения изменчивости, мимолетности важное значение имеет фактура, то может показаться, что и впрямь его полотно — большой импрессионистический этюд.
Композиция картины динамична не менее колорита. Построенная по диагонали (ею служит линия, обозначающая край стола), она кажется «открытой» во всех направлениях и фрагментарной, как кадр мгновенной фотографии. В организации изображаемого пространства участвует еще одна, незримая, диагональ, идущая из глубины, от окна за спиной девочки. Мысленно проведем еще две диагонали — из угла в угол, и увидим, что ее голова расположена немного выше точки их пересечения, почти у вершины равнобедренного треугольника, основанием которому служит верхний край полотна. Ее фигура также вписана в четкий равнобедренный треугольник, его основание — левая рука девочки, лежащая на столе. Таким образом в картине все строго уравновешено, устойчиво, однако ясная логика не нанесла ущерба ее эмоциональному строю. В центре внимания Серова оставался прежде всего образ его юной героини, хотя в поле зрения художника попало множество самых разных предметов. Это старинные стулья, кресла и стол — все темного дерева, полированные, отражающие падающий на них свет, их преимущественно криволинейные очертания вторят контуру фигуры девочки, силуэт, служа своеобразным «обрамлением», помогает закрепить ее положение как в изображенном пространстве, так и на плоскости полотна. Шапка ее густых темно-каштановых волос и большой синий бант на розовом фоне являются столь же устойчивыми «доминантами» этой строго рассчитанной композиции. Лишь благодаря ее уравновешенности, выверенности наше внимание и может сосредоточиться на лице Веруши, на котором играет нежный румянец, проступающий сквозь глубокий, ровный загар. Живой взгляд ее карих глаз, легкое, едва уловимое движение губ, их уголки слегка приподняты, улыбка в любой миг готова озарить лицо этого полуребенка-полудевушки. На редкость красива нежная женственная кисть ее левой руки, спокойно лежащая на белой скатерти. По контрасту к ней несколькими энергичными мазками Серов наметил правую руку, передав порывистое движение пальцев, обхвативших персик. Редкая гармония движения и покоя, мимолетного и устойчивого, завершается изображением лежащих на столе серебряного фруктового ножа, чуть пожухлых листьев клена и румяных плодов, форма и особенно бархатистая поверхность которых как бы «перекликаются» с нежным лицом милой серовской модели.
Не менее чем к Абрамцеву, Серов с юности был привязан к другому, ставшему благодаря ему столь же знаменитым месту, расположенному, правда, «несколько подальше от Москвы — в Тверской губернии. Закадычный друг Серова Владимир Дмитриевич фон Дерена, товарищ его по чистяковской мастерской, женившись на его двоюродной сестре Наде Симонович… купил… большое красивое имение Домотканово, сыгравшее весьма заметную роль в истории русского искусства, на протяжении четверти столетия — от 1886 до 1911 года». Весной 1888 года туда приехал Серов, который «твердо решил продолжать линию «Девочки с персиками», но «теперь он задумал портрет на воздухе. Он несколько раз приглядывался к своей двоюродной сестре Маше Симонович, когда она сидела на скамье под развесистым деревом. Она ему очень нравилась, и он… начинал с нее этюд» (И. Грабарь). Н. Симонович-Ефимова, ее младшая сестра, вспоминала, что Маша, «будучи сама художницей (скульптором. — В. Р.), прониклась его (т. е. Серова. — В. Р.) интересами. Своим безмолвным, терпеливым позированием она сделала то, что Валентин Александрович писал спокойно, не торопясь, сосредоточенно. В Домотканове жизнь была тихая в то время. По аллее проходили редко, да и то старались обходить это место во время работы художника». «Модель сидела под деревом, прислонившись к стволу старого дуба. Часть фигуры была в тени от густой листвы, зрителю невидимой; местами — на кофточке, на поясе и синей юбке — играли солнечные зайчики. День солнечный, но не яркий. Погода была ровная, один день как другой, и Серов, не переставая, писал июнь, июль и август» (И. Грабарь). Почти три месяца спокойно, не торопясь, сосредоточенно работал художник, который опять думал о «свежести», о том, чтобы не «измучить» ни модель, ни саму живопись. В процессе работы он пользовался особой техникой: при помощи специального инструмента — мастихина, эластичной металлической пластинки, удалял неудачные, с его точки зрения, части живописи и затем по образовавшейся гладкой, еще сыроватой поверхности наносил новый слой, тонкий, иногда почти прозрачный. Поэтому краски его не только не темнели, но, напротив, сохраняли чистоту, насыщенность, светоносность, хотя это и не была живопись, выполненная в один прием, характерная для этюдов. Он ведь стремился к полной законченности, как у «старых мастеров», секреты которых ему теперь начинали приоткрываться.
Девушка сидит на краешке скамейки на фоне корявого ствола дерева. На затененную скамью, на песчаную дорожку сквозь просветы в густой листве падают солнечные блики. Глядя на серо-лиловые тени и розовые «пятна» света, невольно вспоминаешь живопись Огюста Ренуара, такие его картины, как «Лягушатия» или «Качели», но там все в движении: и свет, и тени, и сами человеческие фигуры, составляющие единую зыбкую изменчивую стихию. Серов решал несколько иную задачу. Будучи прежде всего колористом, он при помощи цвета строил форму предметов, передавал пространственные градации и даже организовывал композицию своего произведения. Насыщенные цветом световые блики, рефлексы падают на белую кофту девушки, на ее руки, спокойно лежащие на коленях, но почти не попадают на оказавшуюся в глубокой тени юбку, почему слитная масса ее синего цвета кажется статичнее всего того, что ее окружает, и зрительно воспринимается как некое спокойное, устойчивое основание фигуры героини портрета. Лицо девушки привлекательно мягкостью черт, еще не утративших детской неопределенности, ее взгляд ясный, открытый, в известном смысле двадцатичетырехлетняя Маша больше ребенок, чем лукавый бесенок Верушка Мамонтова.
В этом портрете-картине им, по существу, был создан некий тип — идеал, вобравший в себя и выразивший значительно полнее и глубже, чем «Девочка с персиками» его поэтическое мироощущение, которое в том же году стало темой пейзажа «Заросший пруд. Домотканово».
«Пристально рассматривая пейзаж, замечаешь, как внимательно, мазок за мазком, Серов следил за цветовой гаммой зелени, не повторяя ни одного миллиметра одинаковым тоном и в то же время не дробя общего, держа его твердо в своих глазах и в своих руках. Сколько вкуса в каждом ударе кисти, сколько свежести, о которой столь заботился Серов и которой достигал, несмотря на бесконечное число сеансов… Эта поистине потрясающая способность не засушивать вещи, невзирая на долгую работу, — одна из самых счастливых особенностей серовского искусства… Недаром он говорил ученикам: «Быстро, с налету, всякий может сделать, а вот напишите во сто сеансов, да так, чтобы сохранилась вся свежесть одного» (И. Грабарь).
Автопортрет. 1887 год.
В 1889 году на VIII Периодической выставке московского Общества любителей художеств были впервые показаны четыре работы Валентина Серова: «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд», а также «Портрет композитора П. И. Бларамберга (1888), причем две из них — «Девочка с персиками» и «Заросший пруд» — были удостоены денежной премии. «Публика едва ли очень реагировала на произведения никому не известного художника, — писал впоследствии Грабарь, — но художники и особенно мы, тогдашняя молодежь… не отходили от них, главным образом от этого интригующего портрета «В. М.» (т. е. от «Девочки с персиками». — В. Р.). Нам было ясно, что появился новый большой художник с каким-то особым, непривычным лицом, которое не напоминало решительно ни одного из всех известных мастеров… На той же выставке висели вещи К. Коровина, Левитана, Малютина, Архипова, художников, из которых каждый сказал свое слово, но их уже знали, к ним привыкли, Серов же был новым явлением». «Девушку, освещенную солнцем» еще до открытия выставки купил Павел Михайлович Третьяков. Серов радовался деньгам (300 рублей), в которых постоянно нуждался, но еще более тому, что картина попала в самое авторитетное русское художественное собрание, что, однако, не помешало противникам начавшихся перемен в национальном искусстве, в числе которых оказался и В. Маковский, отнестись к этому его приобретению резко отрицательно. В начале ноября 1911 года, незадолго до смерти, Серов в последний раз увидел это свое юношеское полотно. Вместе с И. Грабарем он долго рассматривал его. «Потом махнул рукой и сказал: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло; тут весь выдохся». Со столь строгой критической самооценкой Серова, однако, никак нельзя согласиться, тем более что завершал он свой творческий путь вещами не менее значительными, нежели его «девушки», но совсем иными как по мироощущению, так и по образному строю.
В декабре того же, 1888 года должно было отмечаться двадцатипятилетие первого исполнения оперы А. Серова «Юдифь», в связи с этой датой В. Серов начал работать над портретом отца, которого помнил, хотя к моменту его смерти мальчику едва ли исполнилось шесть лет. Однако торжества не состоялись, портрет же, завершенный в 1889 году, был показан на XVIII выставке передвижников (1890). Критика почти не отмечала новое произведение молодого мастера, и только В. В. Стасов, хорошо знавший знаменитого композитора, писал: «отцовский портрет вышел у молодого Серова истинно превосходною и сильно примечательною вещью». Отмечая, что «способность схватывать натуру человека, целую фигуру, внутреннее выражение (т. е. состояние. — В. Р.) — присутствуют у него уже и теперь в высоко замечательной степени», выдающийся художественный критик свидетельствовал также, что «сходство в портрете — поразительное. Тут схвачена вся натура, все привычки, вся поза и ухватки Александра Серова, его манера стоять у своей рабочей конторки, его манера смотреть, думать, писать». «Портрет отца мне самому нравится (это много значит, серьезно)». Требовательность В. А. Серова к себе общеизвестна, и подобные слова лишний раз подтверждают, что художественные результаты начала его творческого пути были достаточно высоки. Так, написав «Волов», он заложил основу своей будущей пейзажно-жанровой тематики, в портретах Веры Мамонтовой и Маши Симонович «сформулировал» свое кредо — «отрадное». Большой портрет-картина «А. Н. Серов» предвосхитил его искания как в парадном жанре, так и в направлении создания образа человека-творца.
Кабала портретиста
Уже в произведениях второй половины 1880-х годов, будь то портреты или пейзажи, отчетливо проявилась главная «особенность Серова — всюду ощущаемая власть и убедительность взвешивающего творчески (не только рассудочно) ума — ума, не то чтобы действующего параллельно художественному «деланию», а тесно с ним слитого… Ум Серова, распознаваемый в его творчестве, это — мысль искусства… Этот острый резец всегда бдящего интеллектуализма в творчестве Серова выделяет его очень рельефно среди всех художников эпохи… Он мыслит вескими суждениями, слитыми с образами, а не отвлеченными категориями, которые потом переводятся на искусство». В этих замечаниях выдающегося композитора и музыковеда Б. В. Асафьева (из его книги «Русская живопись. Мысли и думы») исключительно точно выражена суть серовского творческого метода, в основе которого лежит прямое превращение «суждений» в образы, и это прежде всего отличает его от мастеров предшествующего поколения. По глубокому убеждению Асафьева, портрет Ф. М. Достоеского вышел бы у Серова совсем иным, нежели у В. Г. Перова: «Вы говорите, что этот человек обуреваем великой болью о страждущем человечестве и в его облике — мучающая его мысль о правде. Хорошо. Позвольте только взглянем, нет ли в нем еще чего «поконкретнее» в смысле стимула «страдания». И вот Серов «догляделся бы» до религиозной раздвоенности и сомнения, чуть ли не на грани атеизма, а то и до мятущейся психики игрока! В этом все серовское искусство портрета. Не доверять, не быть наивным!» Видимо, не случайно Асафьев «предложил» Серову такую трудную во всех отношениях модель, прекрасно понимая, что ему, во-первых, пришлось бы писать Достоевского после Перова, художника далеко не доверчивого и отнюдь не наивного. Он учел также и то, что Серов «догляделся бы» до самых сокровенных глубин трагически раздвоенной личности писателя еще и потому, что «смотрел бы» по-иному. Серов — подлинный мастер психологического синтеза, и это свойство его таланта роднит его с величайшими портретистами прошлого.
 Портрет Марии Орловой. 1895 год.
Портрет Марии Орловой. 1895 год.
Может показаться, что все сказанное выше относится прежде всего к серовским портретам-характеристикам конца 1890—1910-х годов и не имеет ни малейшего отношения ни к его «девушкам», ни вообще к тем из его портретов, моделями для которых послужили люди, вызывавшие к себе личную симпатию художника. Это глубокое заблуждение. Как портретист Серов был беспощадно объективен по отношению к любой модели, это-то и позволяло ему проникать в самые сокровенные глубины человеческой личности.
«В начале своей деятельности Серов писал портреты с тех, кто ему нравился, с приятных или родственных ему людей. Приобретя известность, Серов уже поступает в «общее пользование», принимает заказы от «всяких людей». Он уже везет воз бытовых обязательств, напрягает свои силы, берет даже в «гору». Наступает кабала портретиста, кабала до самой смерти». Так писал впоследствии о своем учителе и старшем друге известный русский и советский художник Н. П. Ульянов. Думается, однако, что по отношению к В. А. Серову выражение «кабала портретиста» имеет особый смысл: изображая «всяких людей», он тем не менее никогда не шел на поводу у заказчиков, не старался потрафлять их вкусам. Любой из его портретов — это прежде всего творческий акт. «Среди русских портретистов, — указывал Ульянов, — Серова считают наиболее строгим не только по отношению к людям, но и к своеобразно понятому им своему призванию и к особой системе доказывать это. Он писал быстро, быстро схватывал сходство и, однако… часто девяносто сеансов! Легко сказать, но трудно поверить. Как же хватало на это сил у него и терпения у модели? Что за нелепость, что за ненужное истязание обеих сторон? Во имя чего могла быть оправдана такая долгая пытка? …Позирующие Серову видели, как он кроит и примеряет, шьет и по нескольку раз бросает. Редко кто из специалистов в какой бы то ни было области согласился бы не только исправлять уже сделанную вещь, но и уничтожить ее, чтобы сделать другую, лучше. Вот в чем особый метод Серова», который «не щадил ни себя, ни ее (т. е. модель. — В. Р.) для воплощения своего портретного замысла». Однако он не стремился вырваться из такой «кабалы»; мучительная работа, требующая предельной самоотдачи, составляла смысл и содержание его творческой жизни.
В 1890-х годах Серов написал группу портретов людей из числа тех, кто ему нравился, — художников, артистов, литераторов
Осенью 1891 года им был создан портрет его друга художника К. Коровина, исполненный, по свидетельству И. Грабаря, «вопреки обыкновению быстро, в несколько сеансов», оставляющий впечатление стремительно, «на одном дыхании» написанного этюда, как бы имитирующего живописную манеру самого Коровина. Серов, однако, «рассказал» о непосредственном, немного богемном Коровине, «своими словами». Изображая молодого художника, в свободной позе прилегшего на диван, опершегося локтем на полосатый валик, он на первый взгляд «бегло», однако очень точно передал всю окружающую и характеризующую его обстановку: раскрытый этюдник на рабочем столе, светлые стены с небрежно приколотыми к ним этюдами. Портрет написан в сильном свету, в нем масса воздуха, но все же пленэрной в полном смысле этого слова его живопись уже не назовешь. Поистине виртуозная (как не любил В. А. Серов, никогда не ухищрявшийся, не искавший эффектных приемов, этого слова), она построена на точно сгармонированном сочетании сильных контрастных цветов: темно-синего, красного, а белый цвет сорочки написан на фоне светлой стены (какой это великолепный кусок сложнейшей живописи!). Грабарь считал, что портрет К. Коровина Серов не закончил. В самом деле, насколько тщательно написано красивое смуглое лицо Коровина, как зорко подмечены тончайшие нюансы его внутренней жизни,
свойственные ему душевная открытость, доброта, настолько же общо, «небрежно» намечены руки. Однако присмотритесь внимательно: кисть правой руки очертанием напоминает клешню рака. Коровин — левша, привык держать в ней палитру, и этот профессиональный жест прочно закрепился, точно так же, как в чуть согнутых пальцах левой невольно начинаешь «видеть» пучок кистей. В жесте раскрывается его живой, импульсивный характер.
В 1893 году Серов написал портрет И. И. Левитана. Тридцатитрехлетний пейзажист находился тогда в зените славы. За год до того, как он позировал Серову, им были созданы картины «Вечерний звон», «У омута» и «Владимирка» — три полотна, из которых первое заключает в себе мир просветленно-печальный, второе — тревожно-таинственный, третье — скорбно-эпический, а вместе они составляют глубокое раздумье художника над смыслом бытия, выраженное им через вечные образы русской природы. Серов чутко уловил строй чувств великого пейзажиста, не случайно портрет вызывает в памяти произведения старых европейских мастеров XVI — XVII веков и в первую очередь Рембрандта. Нет, Серов никому не подражал и никого не «цитировал», на подобное сравнение наводит прежде всего способ развития образа героя портрета во времени. Полузатененная комната. Левитан сидит, положив левую руку на спинку плетеного кресла. Фигура художника погружена в полумрак, и только красивая кисть руки и лицо выделены мягким светом. Подчеркнут его высокий лоб, глаза в глубокой тени, от этого задумчивый, печальный взгляд художника кажется особенно «долгим» — это взор мыслителя и поэта.
В 1890—1893 годах Серое исполнил портреты двух выдающихся итальянских певцов, гастролировавших на сцене Частной оперы С. Мамонтова, — Анджело Мазини и Франческо Таманьо. На подмостках мамонтовского театра выступали только мировые знаменитости. Однако в серовском портрете Мазини, которого Ф. Шаляпин считал не певцом, а «серафимом от бога», раскрыта вовсе не его артистическая сущность, «на холсте навеки пригвожден капризный и наглый баловень всесветной славы, развалившийся в кресле… с надменно и презрительно откинутой назад головой и томным взглядом покорителя сердец» (И. Грабарь). По мнению автора, портрет «получился не дурен, то есть похож», но сама живопись ему не очень нравилась: «цвета не свободные», скорее всего, потому, что Мазини как человеку он не симпатизировал, и это невольно сказывалось на его портрете, а того холодного, беспощадного аналитизма, который позднее позволял Серову «зажигаться» подобного рода образными задачами, он тогда еще не выработал.
Одним из безусловных шедевров серовской кисти стал портрет другого итальянского певца, блистательного тенора, обладателя «золотого горла», голоса «такой могучей силы и волшебной красоты, каких уже после него не слыхали» (И. Грабарь), — Франческо Таманьо. К сожалению, сейчас уже невозможно установить, в какой из ролей изображен выдающийся артист, но то, что он показан «в образе», несомненно. Поражает уже сама композиция портрета, выбранная Серовым точка зрения снизу вверх, которая позволяет сделать фигуру певца крупнее, а его образ в целом монументальнее, несмотря на относительно небольшие размеры полотна. Его голова, обрамленная темным в красную крапинку беретом, достает почти до верхнего края холста. Могучий разворот плеч, широкая грудь — Таманьо был «огромного роста, косая сажень в плечах», но художник избегает объемности, «телесности» его могучей фигуры, напротив, он почти сливает ее с темным фоном, лишь несколькими широкими, сильными мазками передавая свободу, раскованность ее движения. Горделиво приподнятая голова Таманьо, смелый взгляд светлых глаз, золотисто-розовый цвет лица — все свидетельствует о его уверенности в себе и даже, пожалуй, самоуверенности этого баловня судьбы, лишенного, однако, пресыщенности, свойственной Мазини. Таманьо — человек открытый, жизнерадостный. Может Ьыть, именно поэтому и колорит его портрета получился таким светоносным, «тициановским», и видимо, Серов намеренно не убрал с живописной поверхности потеки золотистого лака, придающие его произведению особый артистизм, находящийся в прямом соответствии с образом Таманьо, перед портретом которого вновь хочется вспомнить о жизнерадостности, «беззаботности», ощущениях, некогда навеянных Серову Венецией.
Резким контрастом к предшествующим произведениям воспринимается портрет писателя Н. С. Лескова (1894), созданный им незадолго до смерти автора «Левши». В русском искусстве это, пожалуй, один из наиболее трагических портретных образов, равновеликий «Достоевскому» Перова и «Мусоргскому» Репина. Лесков в портрете Серова тяжело больной, втянувший голову в плечи, как бы сжавшийся в комок, истерзанный «своими ободранными нервами» да злою ангиной (как вспоминал сын писателя А. Лесков), глаза жгут, безупречно, до жути острое сходство потрясает» (Г. С. Арбузов). Только при условии абсолютного духовного контакта с моделью достижима столь высокая степень насыщенности внутренней жизни и не просто психологического проникновения в мир изображаемой личности, но создание ее «драматизированной биографии». В портрете Лескова есть ценнейшее, особенно свойственное русскому портрету качество, замечает В. А. Леняшин, «когда увиденные, прочитанные в натуре черты прекрасного по выразительности лица сливаются с этическим идеалом самого художника». Вот почему, если между Серовым и Мазини ясно чувствуется взаимное «отталкивание», то между ним и страдающим Лесковым дистанция не ощущается вовсе.
 Летом. Портрет О.Ф.Серовой. Фрагмент. 1895 год.
Летом. Портрет О.Ф.Серовой. Фрагмент. 1895 год.
«Отрадный» образ, восходящий к его «Девушкам», созданный Серовым в картине «Лето» (1895) — портрете О. Ф. Серовой, — стал завершением линии пленэрного портрета-картины. Однако в полотне, написанном им в любимом Домотканове, на котором изображены ожидающая ребенка жена Ольга Федоровна, а также двое старших детей художника, играющие в высокой траве на залитой солнцем поляне, хотя и царит ясная гармония, но уже не ощущается былой безмятежности С годами он, видимо, все яснее начинает осознавать, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Эта пушкинская строка невольно вспоминается, когда стоишь перед картиной «Лето» или же перед написанным им в том же году пейзажем-жанром «Октябрь. Домотканово» — высокими образцами внутренней самодисциплины их создателя, ум и сердце которого, подвластные его железной воле, всегда были между собой «в ладу».
«Одним из лучших серовских портретов всех времен» Грабарь считал написанный в том же году портрет М. К. Олив (двоюродной племянницы Саввы Ивановича Мамонтова) — произведение, поставившее его создателя на исключительное место среди русских и европейских мастеров конца прошлого века. Совершенно «неожиданное» в живописном отношении — в портрете царит глубокий полутон, и лишь лицо, руки и драгоценное ожерелье на шее женщины излучают свет — оно и в подходе художника к модели не имеет прямых аналогий ни среди его работ предшествующих лег, ни в последующие годы. Будучи, как всегда, плодом долгих «мучений» и его самого и его модели, портрет М. К. Олив может показаться импровизацией, созданной в краткий миг озарения. Фигура женщины в темном платье почти сливается с мерцающим, экспрессивно широко написанным фоном, воспринимающимся, однако, не как условный «задник», но как эмоциональная среда, адекватная именно этому человеку — импульсивной, порывистой Маре Олив, лицо которой, возможно даже некрасивое, излучает радостное сияние. Созданное им необыкновенное по красоте зрелище не заслоняло главного — жизненной полноты образа.Начиная со второй половины 1890-х годов Серов все чаще пишет портреты представителей крупной буржуазии, высшей знати, в том числе членов царской фамилии. Тонко дифференцируя свое отношение к каждому из тех, кто ему позировал, Серов вместе с тем всегда занимал позицию человека, тщательно оберегающего свою личную независимость от любых посягательств. Хорошо известно, что он нередко отказывал своим заказчикам. Вместе с тем, внимательно вглядевшись в человека, он увлекался и даже вдохновлялся, «но не самим лицом индивидуума, которое часто бывает пошлым, а той характеристикой, которую из него можно сделать на холсте» (С. Арбузов). «Его упрекали, — писал Грабарь, — в шаржировании, говорили: «Серовские портреты — чистейшие карикатуры». Серов это решительно отрицал: «Никогда не шаржировал, — говорил он, — ложь! Что делать, если шарж сидит в самой модели, — чем я-то виноват? Я только высмотрел, подметил». Обратимся к трем из произведений этих лет. Первое — портрет М. Ф. Морозовой, «крепкой умной старухи, «мамаши» последних московских архимиллионеров» Саввы и Сергея Тимофеевичей Морозовых, настолько богатой, что ее любимая приживалка «топила печи пачками ценных бумаг». И как бы продолжая это замечание Грабаря, ‘ видный современный исследователь портретного творчества Серова В. А. Леняшин пишет: «В соединении бойкой посадки, цепко сжатых
й облик которого рук, по-особенному проницательно оценивающего взгляда — «сверкающего левого глаза и прищуренного правого» — возникает образ не столько купчихи, сколько «процентщицы». При всех внешних различиях М. Ф. Морозовой и персонажа романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» их внутреннее родство очевидно. Богатую, властную старуху Серов изобразил сидящей в кресле золоченого дерева с синей бархатной обивкой. Темная масса одежды придает ее фигуре устрашающую монументальность, а причудливый силуэт, напротив, делает ее смешной и жалкой. «Проницательный и строгий к людям, Серов, — пишет Грабарь, — во время своих наблюдений всегда ставил мысленно отметки: одному тройку, другому двойку, редко кому четыре с минусом и очень часто единицы. «Я ведь злой», — говорил он про себя». Старой «процентщице» Морозовой Серов наверняка поставил единицу, тем же баллом он оценил «героев» и других своих портретов — великого князя Павла Александровича (1897) и С. М. Боткину (1899). Великий князь в форме лейб-гвардии конного полка изображен на кавалерийском плацу во время учений, в глубине виден строй всадников. Пыльно-песочный цвет земли, спокойное серенькое небо — ничто не отвлекает внимания от элегантного офицера в белом мундире и сверкающей кирасе с золотым шлемом в руках. Весь этот драгоценный антураж вряд ли должен был намеренно подчеркивать его абсолютную безликость и полнейшую ординарность, но и скрыть их он тоже не мог. Не случайно же все, кто писал об этом портрете, единодушно отмечали, насколько великий князь проигрывает в сравнении со своим прекрасным конем, благородный вызывает неизменные симпатии у зрителей.
Портрет С. М. Боткиной и сегодня продолжает привлекать к себе внимание своеобразием композиционного и живописного решения. Только очень Смелый колорист мог позволить себе соединить на одном полотне густо-синее с золотым и желтое с розовым, создав цветосочетание, по его же собственному выражению, «несколько цыганского типа», рискованное хотя бы уже потому, что само по себе оно граничит с безвкусицей. Но, судя по всему, это входило в замысел, точно так же, как «странная», на первый взгляд предельно неустойчивая композиция — вычурных очертаний диван развернут по диагонали в пустом пространстве полотна настолько большом, что маленькая, хрупкая, почти жалкая фигурка женщины в желтом платье и золотых туфельках, робко сидящая в уголке, почти теряется в нем. «Так и хотел посадить, чтобы подчеркнуть одинокость этой модной картинки, ее расфуфыренность и нелепость мебели. Не мог же я писать этот портрет с любовью и нежностью». И действительно, в контексте полотна лицо Боткиной почти теряется, и эта обезличенность отличает и ее, скучающую московскую барыньку, и целое сословие.
Портреты «великого князя» и Боткиной принадлежат к разряду парадных, но, не правда ли, парадность Серов понимал весьма своеобразно? На Всемирной выставке 1900 года в Париже оба они были отмечены высшими наградами, а в творчестве художника стали важными вехами в эволюции светского портрета. Три портретных образа — циничной старой купчихи, надменного щеголя-офицера и скучающей «светской» дамы с манерами и вкусами провинциалки исполнены по заказу. Однако не эти богатые и высокопоставленные заказчики диктовали художнику свою волю. Платили, правда, они, но «музыка» писалась не совсем та, а вернее, совсем не та, которую они «заказывали». И так было всегда, до конца жизни Серова.
Эмоциональную и творческую «отдушину», необходимую художнику в тяжкой «кабале» заказной портретной работы, составляли образы детей, своей чистотой и непосредственностью призванные компенсировать все более возраставший и в жизни, и в искусстве дефицит «отрадного». Эта стержневая для Серова этико-эстетическая установка никогда не уходила из его творчества, хотя, естественно, его представление об «отрадном» менялось от десятилетия к десятилетию. На рубеже 1890—1900-х годов, его взгляд на «отрадное», на юное существо стал значительно сложнее. Серов никогда не превращал ребенка в игрушку, в куклу, напротив, он относился к детям со всей серьезностью, бесконечно дорожа тем, что в отличие от большинства его взрослых моделей они — существа искренние, естественные во всех своих проявлениях. Его детские портреты, и живописные, и выполненные в рисунке или акварели, показывают столь глубокое и точное постижение души маленького человека, что не так-то просто найти им подобное в искусстве других эпох и стран.
«Перед его портретом «Дети» (1899) испытываешь чувство узнавания обычного, простого, знакомого, но почему-то волнующего, тревожащего. Белые просторные блузы, мешковатые темно-синие штаны, чулки, ботинки, дощатый пол террасы, а дальше — серое небо, песчаный берег залива. Но сколько «суровой нежности» во взгляде художника, в том, с какой правдивостью передает он влажность морского воздуха и эти нахохлившиеся детские фигурки, возникающие перед нами в пленительном повторе одинаковых пропорций, одежды, цвета волос. В этом повторе — одна из магических струн холста. Поворот на нас одного из мальчиков приобретает характер медленного завороженного движения; он с трудом отрывается от каких-то своих переживаний, он еще в их власти, принадлежа больше морю и небу, чем художнику, на которого он переводит невидящий взгляд, в то время как другой мальчик в полной неподвижности продолжает разговор с природой, имеющий особую ценность в гармонии детского восприятия» (В. Леняшин). Мальчики (сыновья художника) в картине как бы становятся неотъемлемой частью природы. Образ, созданный Серовым, по-своему пантеистичен, однако его мир раскрывается нам не через философскую фантастику, творимую в это же время Врубелем в картинах «Пан», «К ночи», «Сирень», а непосредственно через активно опоэтизированную реальность.
 Мика Морозов. (сын Михаила Абрамовича Морозова. будущий шекспировед)
Мика Морозов. (сын Михаила Абрамовича Морозова. будущий шекспировед)
По контрасту к героям картины «Дети», пребывающим в «длительном состоянии», сидящий в креслице четырехлетний малыш Мика Морозов — воплощение живой детской радости. Уже само построение композиции по диагонали, сильный контраст белой рубашонки мальчика с относительно темным передним планом и фоном, тонко подмеченное эмоциональное состояние ребенка: стремительная поза, «мгновенное» движение рук, светящийся взгляд ярких карих глаз, чуть приоткрытые губы — все говорит о его необыкновенной взволнованности.
К числу подлинных шедевров мастера следует отнести портрет сына Саши («Саша Серов», 1897), а также такие графические листы, как «Дети Боткины» (1900), «Юра Морозов» (1901), «Девочки Касьяновы» (1907) и др., в которых очень скупыми средствами, при помощи одной лишь чистой строгой линии, почти без светотеневой моделировки художник создавал образы исключительного обаяния.
К детским портретам по выраженному в них строю чувств близок целый ряд изображений молодых женщин, созданных В. А Серовым на рубеже веков. Еще юношей в 1889 году он одновременно с И. Е. Репиным написал портрет молодой, немного грустной девушки в украинском костюме С. М. Драгомировой, близкий по «интонации» к «Девушке, освещенной солнцем». Прошло одиннадцать лет, и им был создан ее же, С. М. Лукомской (по мужу), небольшой акварельный портрет (1900) — истинное чудо постижения глубины сложного душевного мира прекрасной женщины, мира трагического, выраженного не только в ее скорбном взгляде, но главным образом в колорите, в траурной гамме коричневого и черного. «Портрет К. А. Обнинской с зайчиком» (1904), выполненный в технике сангины и пастели, подобно изображению маленького Мики Морозова, привлекателен передачей сложной гаммы взволнованных чувств молодой женщины.
К концу 1890-х годов Серов — уже широко известный и даже модный портретист, заваленный заказами. При этом нельзя сказать, что напряженный, требующий от него невероятно большой затраты физических и душевных сил труд, окупался гонорарами. Многие современные ему портретисты брали за свои произведения вдвое и даже втрое больше Серова (например, К. А. Сомов), для которого денежный вопрос был всегда мучителен. Человек далеко не богатый, «почти нищий» (так говорил сам Валентин Александрович), он, по словам И. Э. Грабаря, «был сдержан с «богачами», с которыми никогда не сходился слишком близко. Какое-то расстояние чуть заметного холодка между ними всегда оставалось». Внутреннюю человеческую неудовлетворенность от заказной работы Серов старался компенсировать лирическими образами, создаваемыми в детских и женских портретах.
Поэзия обыденного
В книге К. А. Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь» описан такой эпизод: крестьянин Василии Макаров, с явным неодобрением относившийся к ремеслу художника, спросил его: «И чего это вы (т. е. художники. — В. Р.) делаете — понять невозможно. Вот Левантин Ликсандрович Серов лошадь опоенную, которую живодеру продали, в телегу велел запречь и у леса ее кажинный день списывает. И вот старается. Чего это? Я ему говорю: «Левантин Лисандрыч, скажи, пожалуйста, чего ты эту клячу безногую списываешь. Ты бы посмотрел жеребца-то… вороного, двухлетнего. Вот жеребец — чистый зверь, красота конь! Его бы списывал. А ты что? Кому такая картина нужна? Глядеть зазорно. Где такого дурака найдешь, чтобы такую картину купил». А он говорит: «Нет, эта лошадь, опоенная, мне больше вашего жеребца вороного нравится». Вот ты и возьми… Чего у него в голове — понять нельзя».
В рассуждениях зажиточного мужика-крахмалозаводчика отчетливо просматривается обывательский «здравый смысл» человека, уже утратившего способность непосредственно воспринимать окружающий его мир, природу, что так высоко ценил в крестьянах В. А. Серов. И. Э. Грабарь вспоминал услышанный от него рассказ о том, как во время работы художника над картиной «Баба с лошадью» (1898) крестьяне «по первым же штрихам пастельных карандашей узнавали, что они Обозначают: «Гляди — нос, глаза, губы, платок». Угадывали все сразу — «не так, как образованные, обыкновенно поначалу ничего не разбирающие», прибавлял Серов. Эту чуткость неиспорченного глаза и точность восприятия Серов всегда высоко ценил у народа». Он «признавался, что этот успех у крестьян был ему приятнее похвал присяжных критиков и интеллигентов».
 В деревне. Баба с лошадью. 1898 год.
В деревне. Баба с лошадью. 1898 год.
Крестьянские образы Серова целостны по мироощущению. Как лирик он полнее всего реализовался именно в этих простых и поэтичных картинах,, выполненных маслом, акварелью, пастелью. Если же вести отсчет от абрамцевских и домоткановских пейзажей второй половины 1880-х годов, если вспомнить о том, что поэтическая гармония «Девочки с персиками» и «Девушки, освещенной солнцем» во многом определялась высокой степенью слияния человека с природой, а также учесть, что для молодого Серова природа была одним из главных средств выражения его «отрадного» отношения к миру, то станет понятно, почему именно в ней он и в более поздние годы видел едва ли ни единственную для себя возможность воплощения поэтического идеала. При этом важно отметить, что образы, созданные им на деревенском материале, лишены какой бы то ни было идеализации: поэзия его пейзажей и крестьянского жанра — это поэзия обыденного. В этом смысле Серов стоит рядом с А. Саврасовым, со своим современником и другом И. Левитаном. Много точек соприкосновения у него с К. Коровиным, с которым он не раз работал вместе над сходными пейзажными мотивами. В середине 1894 года они совершили совместную поездку на север — в Архангельск и на Мурман по специальному заданию Ярославо-Архангельской железной дороги, возглавляемой С. Мамонтовым, откуда привезли множество этюдов, в которых у Серова по сравнению с более ранними пейзажами появились «серебристая гамма», а также «изящный и вкусный мазок». Эмоциональное родство пейзажей Серова и Коровина подчас очень велико, наглядный тому пример — небольшая картина последнего «Зимой» (1894), наиболее близкая по простоте и лиризму лучшим из серовских «крестьянских» полотен.
Серов и Левитан. Как мастера пейзажа, они в начале своего творческого пути были почти что антиподами: для Левитана главное — «настроение», которое должно было вызвать у зрителя совершенно определенные ассоциации (поэтические или социальные), для Серова — трезвый объективный подход к природе, ее бытию, состоянию, которое и должно было рождать у нас определенное «настроение». Крупный исследователь русской пейзажной живописи А. А. Федоров-Давыдов так определял принципиальные различия метода двух выдающихся мастеров: «Левитан преимущественно переживает, а Серов созерцает. Вот почему у Серова фигуры людей в пейзаже нужнее, чем у Левитана. У Левитана они только дополнение пейзажа, и то редкое. У Серова же… пейзаж соединяется с крестьянским жанром», при этом, как и в портретах, «он ищет в ней (т. е. в природе. — В. Р.) нечто характерное, выражающее внутреннюю сущность, и, найдя, хочет ее передать, обобщая формы, упрощая и вместе с тем активизируя свои живописные средства». В небольших картинах Левитана 1899—1900 годов «Летний вечер. Околица», «Стога. Сумерки» и еще нескольких им подобных, написанных с мудрой, истинно чеховской «экономностью» выразительных средств, «переживание» начинало все более походить на серовскую «созерцательность». Высочайшим образцом обобщенного, до предела лаконичного и, может быть, именно поэтому столь емкого пейзажа стал «Октябрь. Домотканово». (1895) — едва ли ни самое выдающееся произведение всего «крестьянского» цикла В. А. Серова, картина о дорогих его сердцу «серых днях» русской осени, о земле, и небе, о мальчонке-пастухе, который, сидя на стерне, деловито чинит хомут, об овцах и столь любимых им неказистых деревенских лошадках, о рыжем жеребенке, короткими прыжками (у него спутаны задние ноги) перебирающемся через поле, о птицах, всполошенно мечущихся над крышами крестьянских изб, А «рассказал» все это Серов живописным сочетанием неярких коричневатых тонов земли и серебристо-серых неба. Бесхитростный на первый взгляд сюжет вырастал у Серова в картину «Октябрь. Домотканово», вместившую в себя образ Родины.
Близко ей небольшое полотно «Баба в телеге» (1896). «Вдоль речки, по мало наезженной дороге, едет в телеге баба. Это далеко не простой этюд берега, воды, леса за ней и телеги с лошадью, потому что лошадь движется, колеса вертятся. Почти непонятно, как художник добился, что они вертятся, но факт тот, что колеса находятся в движении, притом без помощи трюка смазанных контуров, облегчающих впечатление движения. На перелке телеги сидит, понуро наклонившись туловищем вперед, баба. Все средства выражения здесь предельно лаконичны, все проще простого, никаких замысловатых приемов, рассчитанных на повышение силы воздействия, а картина — впечатляюща. Передана не одна внешность видимого, а нечто большее: зритель по воле автора с чувством умиления следит за движущейся телегой, за унылой спиной бабы, думающей свою бабью тяжелую думу. Вот это и есть то «нечто», что отличает этюд от картины, копирование природы от раскрытия ее души. Но это относится лишь к содержанию серовской картины, стилевое отличие от предшественников и современников Серова еще более велико. Более чем когда-либо он’ думает сейчас о простоте выражения». Он «упорно ищет ее, отбрасывая все лишнее, сохраняя только основное, определяющее и раскрывающее тему», — писал И. Э. Грабарь.
Присутствует ли в крестьянских пейзажах-жанрах Серова социальный подтекст? Безусловно, только в отличие от произведений мастеров предшествующего поколения он проявляется у него не в пафосе обличительства, но в сдержанном лиризме его отношения к родной земле, заключающем в себе твердое убеждение художника в том, что «в Россию можно только верить».
Своеобразным преломлением пейзажно-жанровых исканий в творчестве В. А. Серова стала его работа над пушкинской темой, предпринятая в связи со столетием великого поэта (1899). Принимая участие вместе с другими художниками в иллюстрировании юбилеиного издания сочинений А. Пушкина, он исполнил два произведения — темперу «Тройка» по мотивам стихотворения «Зимняя дорога», а также акварель «А. С. Пушкин на садовой скамье» — один из самых одухотворенных образов поэта во всей посмертной изобразительной Пушкиниане.
 Пушкин на садовой скамейке. 1899 год.
Пушкин на садовой скамейке. 1899 год.
Пейзажные, а также анималистические увлечения Серова во многом определили успех его работы над рисунками к басням И. Крылова (1898—1911). Полностью сохраняя «звериную» природу животных, наиболее многочисленных персонажей басен, он наделял их типичными человеческими чертами, в тех же случаях, где фигурировали люди, он так же, как и в портретах, раскрывал типическое через индивидуальное, не прибегая к неизбежному, казалось бы, для басенного жанра морализированию. Их лаконичная поэтическая форма побуждала художника к выработке скупой и точной графической манеры, основу которой составляла линия. Из многих десятков рисунков сам Серов наиболее удачными считал «Обоз», «Ворона и лисица», «Мельник», «Волк и журавль», «Тришкин кафтан», «Квартет», «Крестьянин и разбойник», «Мартышка и очки», «Щука» и несколько других.
В конце прошлого века В. Серов уже был признанным портретистом, художником, на стилистические искания которого во многом ориентировалась тогдашняя творческая молодежь, одним из первых в русском искусстве своего времени «европейцем». Принадлежа к поколению мастеров, пришедших на смену передвижникам, он в течение десяти лет (1890— 1899) был связан с Товариществом передвижных художественных выставок (ТПХВ), старейшей организацией русских художников-демократов, показывая свои произведения сначала в качестве экспонента, а с 1894 года уже как полноправный член товарищества. Правда, отношения Серова, как, впрочем, и многих молодых художников (К. Коровина, М. Нестерова, И. Левитана, А. Васнецова и др.),
с товариществом передвижников, прежде всего с его консервативным руководством, были далеко не идиллическими. Как известно, еще в конце 80-х годов один из «старейшин» передвижничества В. Маковский упрекал П. М. Третьякова за то, что, покупая «Девушку, освещенную солнцем», он «прививает своей галерее сифилис». Правда, спустя много лет, в 1914 году, он же утверждал обратное, говоря о том, что многие лучшие мастера «Мира искусства» и «Союза русских художников» «начинали свою карьеру у нас, передвижников. Мы же, передвижники, дали жизнь Серову и Левитану». Идеолог «мирискусников» С. Дягилев справедливо видел в Серове связующее звено между двумя эпохами в истории русского искусства «этической» — передвижников и «эстетической» — «Мира искусства». Сам же Серов, исходя прежде всего из своих морально-этических принципов, считал членство в ТПХВ необходимым, хотя чувствовать себя всего лишь одним из «пасынков передвижничества» (М. Нестеров) ему едва ли было приятно.
В начале нынешнего века
 Портрет М.Н.Акимовой. 1908 год.
Портрет М.Н.Акимовой. 1908 год.
Поистине удивительна многогранность творческой личности В. А. Серова — несомненно, самого крупного и наиболее универсального русского художника начала XX века. Нас и сегодня не перестает поражать широта диапазона его стилевых исканий. В последнее десятилетие своей жизни он со все возрастающим успехом трудился как в главной для себя сфере — портрете, так и в других жанрах станковой живописи — историческом, мифологическом, создавал интересные произведения в области театральной декорации, эскизы монументально-декоративных росписей, гравировал в технике офорта, успешно пробовал свои силы в скульптуре и, как всегда, очень много рисовал.
В кажущейся разнонаправленности его поисков как раз и проявилась необычайная цельность художника. Наличие же в этот период в творчестве Серова различных, подчас резко несходных между собой тенденций вынуждает нас прибегнуть к, хотя и вполне условному и, может быть, даже несколько произвольному, членению его наследия на отдельные группы произведений и разделению этой части нашего текста на две самостоятельные главы.
Главное место в творчестве В. А. Серова продолжал занимать портрет, по преимуществу заказной, причем «кабала портретиста» значительно усилилась, хотя именно в эти годы из-под его кисти выходили полотна, многие из которых с полным правом могут быть названы живописными памятниками эпохи русских революций, Впрочем, современники утверждали, что «писаться у Серова опасно», видя в портретах злую «карикатуру», «шарж», не умея понять, что в этих произведениях им, бескомпромиссным «искателем истины» (К. Коровин), со свойственной лишь подлинно классическому искусству высокой степенью художественной типизации был воплощен антиидеал его времени. Вот наглядный тому пример, давно ставший христоматийным. В 1902 году Серов писал портрет Михаила Абрамовича Морозова: «Московский купец, сын одного из Тит Титычей Островского, но уже приват-доцент Московского университета, стоит посреди своей гостиной «в китайском вкусе» (И. Грабарь).
 Портрет Михаила Абрамовича Морозова.
Портрет Михаила Абрамовича Морозова.
А вот свидетельство Н. Симонович-Ефимовой: «…блестящий и парадный большой портрет, в котором ясно, что тончайшее сукно на этом выхоленном дяде и под сукном чистейшее подкрахмаленное тончайшее полотно, а поза — огородное чучело, кабан, выскочившийся с разгону… И первое, что приходит в голову, когда увидишь портрет, — господи, заказчик-то как же? Согласился? Позировал? Заплатил?»
Портрет образованного человека, собирателя, ценителя и знатока русской и французской живописи конца прошлого — начала нынешнего века и вдруг такие эпитеты: «огородное чучело», «кабан». Но если портрет вызывал у зрителей подобные не слишком-то лестные для модели сравнения, не свидетельствует ли это о том, что Серов не только зорко «высмотрел, подметил» то, что «сидело» в ней изначально, а и превратил образ конкретного человека в социально-художественный тип. Поэтому не приходится удивляться тому, что на вопрос И. Грабаря, доволен ли он только что оконченным портретом, Серов ответил: «Что я! Забавно, что он сам доволен!» — «Я не понял, — продолжал Грабарь. — Есть у вас время?» — «Пойдем, я вам покажу», — сказал он с загадочной улыбкой. — Мы поехали в особняк на Смоленском бульваре, я увидал портрет и понял все. Припоминая знаменитые портреты мировых музеев, я не могу назвать ни одного, который был бы вызван к жизни в обличительном настроении столь высокого порядка. Не портрет, а целый роман захватывающего интереса». Трудно сказать, искренне ли доволен был заказчик, сумел ли он в своем отношении к произведению, созданному выдающимся портретистом, подняться над личными чувствами или же, как об этом принято писать, был вынужден «сделать хорошую мину при плохой игре». Серов сумел показать, что этот сильным, полный неукротимой энергии человек, мощной фигуре которого тесно на заведомо узком для нее холсте, недолговечен. И дело вовсе не в проницательности художника, как бы предугадавшего его скорую кончину (М. А. Морозов умер в 1903 году в возрасте тридцати трех лет), но в раскрытии того, насколько непрочен, эфимерен сам мир, частью которого является столь, казалось бы, монументальная личность. Стремительная диагональ линии, обозначающей край ковра, на котором стоит портретируемый, нарочитая «смазан-ность» фона, предметное содержание которого довольно трудно различимо, неустойчивость, «мгновенность» состояния, в котором пребывает портретируемый, позволяет показать, что, «выскочив» на зрителя, его герой «остановился с разгону» как бы у самого края пропасти. Подобное художественное «провидение» для русского искусства не новость. Достаточно вспомнить написанныи пятью годами ранее врубелевскии портрет С. И. Мамонтова (1897), «стихийная мощь» которого (по определению видного исследователя творчества М. Врубеля Н. Тарабукина) роднит его «с сросшимся с землей Микулой», т. е. легендарным русским богатырем Микулой Селяниновичем, персонажем одноименного декоративного панно Врубеля. Далее, однако, исследователь отмечал, что «другие черты, приданные художником портрету, противопоставляют его могучей, но как бы скованной в своей воле, фигуре русского богатыря. Расширенные глаза Мамонтова, сложенная в кулак его цепкая рука и напряженная поза придают что-то хищническое всей его фигуре. Зоркий глаз портретиста подсмотрел в представителе русской буржуазии тот скрытый под европейским лоском хищнический инстинкт, который отличал если не данную личность в ее целом, то весь класс, особенно в период его первоначального становления. Портрет Мамонтова — это не только портрет личности, но портрет именно класса… Портрет Мамонтова — богатейший материал для социологических концепций и документ исключительной исторической ценности, в котором художник, служа чужому для него сословию, в силу своего гениального дара перевоплощения сумел с поразительной наглядностью показать Социальный облик этого класса».
Поразительно, насколько это суждение подходит к серовскому портрету М. А. Морозова, тем более что если внимательно присмотреться к «конструкции» монументальнейшего врубелевского творения, этого едва ли ни лучшего из его портретов, то «непрочность», историческая обреченность и его героя буквально бросается в глаза. И здесь невольно мысленно возвращаешься во времена творческой молодости обоих художников. В 1887 году Серов создал «Девочку с персиками» — воплощение юности, радости бытия, открытости. За год до него Врубель написал свою «Девочку на фоне персидского ковра», портрет дочери содержателя киевской ссудной кассы Дахновича, в котором создал образ не менее поэтичный, однако по эмоциональному строю (таинственный, загадочный) во всем противоположный серовскому. Но видимо, с годами произошло естественное сближение творческих позиций этих столь не похожих друг на друга мастеров. Отсюда и «совпадение» содержания и даже отчасти «формального» строя портретов.
 Портет И.А.Морозова. 1910 год.
Портет И.А.Морозова. 1910 год.
Значительно позднее, в 1910 году, Серов написал портрет И. А. Морозова, брата «героя» предыдущего полотна. Этот тверской текстильщик был крупным коллекционером произведений новейшей французской и русской живописи, о чем свидетельствует натюрморт работы Анри Матисса, на фоне которого позирует Морозов. Однако изысканное сочетание в портрете, написанном темперой на картоне (отчего его живописная поверхность стала благородно-матовой), сдержанной монохромности с напряженной декоративностью (натюрморта) входило важной составной частью в творческий замысел автора как средство характеристики модели по методу «от противного». Дело в том, что этот «очень подтянутый и очень вылощенный европеец» (А. Эфрос), подобно своему не менее цивилизованному брату, смотрится если не «диким кабаном», то по меньшей мере «упрямым быком», и дело тут, конечно же, не в предвзятом отношении художника к заказчику, а в объективном содержании личности портретируемого. Не менее емок в смысле социально-образной характеристики, хотя, пожалуй, еще более лаконичен в живописном отношении, портрет крупного финансиста и коллекционера В. О. Гиршмана (1911), «скучного, сонливого супруга очаровательной Генриетты» (Г. Л. Гиршман). Увидев себя изображенным в профиль, с надменно поднятой головой, высокомерным выражением лица и жестом руки, заложенной за борт сюртука так, как если бы он, готовясь расплатиться с художником, «доставал золотые из кармана», Гиршман «умолял» Серова «убрать руку», но тот «не согласился, сказав: «Либо так, либо никак!» Портрет этот у Гиршманов висел в дальней комнате», — вспоминала О. В. Серова, дочь художника. И никакие заверения людей, близко знавших В. О. Гиршмана, в первую очередь его жены Генриетты Леопольдовны, объяснявшей позу и жест руки в портрете супруга тем, что, позируя «в конторе между делами», «из-за боязни опоздать» он «часто вынимал часы, прикрепленные к цепочке», никоим образом не опровергают его содержания, выходящего далеко за рамки «сюжета» — изображения В. О. Гиршмана.
Значительно ближе, нежели братья Морозовы или Гиршман, Серову были люди, подобные председателю Петербургского совета присяжных поверенных А. Н Турчанинову, портрет которого он написал в 1907 году. Художник долго изучал знаменитого судебного оратора, прежде чем приступить к работе, он по-настоящему увлекся этим стариком — человеком открытым, чуждым какой бы то ни было позы, в котором жизненная энергия буквально била через край. «Что бы там иногда ни казалось мне самому и другим, — говорил В. А. Серов, — а вот такие лица мне всего ближе. Писать таких — моё настоящее дело».
Как взять человека — это главное, — говорил художник. Каждая модель могла быть «взята» только по-своему. Сказанное полностью относится к состоящему из четырех полотен «фамильному» циклу портретов Юсуповых. Первый из них — «Портрет княгини 3. Н. Юсуповой» (1902) — был исполнен Серовым в Петербурге. «Портрет князя Ф. Ф. Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон», а также портреты их сыновей Феликса (с бульдогом) и Николая (все три — 1903) писались в их подмосковной усадьбе Архангельском. И вновь художник имел дело с людьми, внутренне ему чуждыми, по отношению к мужской части этой аристократической семьи он явно выдерживал порядочную дистанцию, княгиня же по-человечески была ему более привлекательна.
Все четыре портрета очень индивидуальны, к образу каждого из них он искал особый «ключ». Так, об изображении Ф. Ф. Юсупова-младшего (в будущем одного из участников убийства Григория Распутина) известный русский искусствовед начала века Сергей Глаголь писал: «Когда вы подходите к этому портрету, вы чувствуете аромат каких-то аристократических духов; вы чувствуете, как нежны и выхолены эти руки, и заранее угадываете, как выхолены и вычищены эти нежные ногти; вы чувствуете целого человека известного положения, известного общества, известной эпохи». Столь же выхолен и надменен и старший из братьев — Николай, хотя его портрет сам Серов не считал особенно удачным. Что же касается портрета их отца, то он в определенном смысле сопоставим с портретом великого князя Павла Александровича: то же нейтрально-вежливое отношение к малоинтересной для художника модели и столь же блистательная маэстрия живописного исполнения. Высокородного хозяина Архангельского Серов изобразил по его желанию на коне… «Князь скромен, хочет, чтобы портрет был скорее лошади, чем его самого, — вполне понимаю». В последних словах автора портрета слышна откровенная ирония. Князь явно позирует на фоне прекрасной парковой архитектуры, сочной зелени, хотя пейзаж здесь подчинен задаче создания декоративного парадного портрета, а великолепный арабский жеребец, чутко «прядущий ушами», косящий умным внимательным глазом в сторону художника, воспринимается едва ли не как его подлинный главный герой.
Намного сложнее, но при этом внутренне значительнее и ближе самому Серову оказался портрет княгини 3. Н. Юсуповой, женское и человеческое обаяние которой во многом определяло творческое самочувствие художника во время работы над этим полотном: «Княгиня пришла, славная княгиня, ее все хвалят очень, да и правда, в ней есть что-то тонкое, хорошее… кажется, она вообще понимающая». На 3. Н. Юсупову, послужившую ему моделью для трех портретов, Серов в известном смысле «проецировал» свой идеал красоты, гармоничного сочетания в человеке внешнего и внутреннего, который позднее он воплотил в овальном портрете Г. Л. Гиршман (1911). Правда, в большом полотне 1902 года «приветливый, но холодноватый взгляд» княгини, «привычная, а поэтому больше любезная, чем вызванная живым чувством, улыбка, непринужденный, но явно идущий от манеры наклон головы» создают «впечатление скорее светско знакомства, нежели глубокого человеческого общения» (В. Леняшин). Образ, созданный Серовым в этом произведении, далеко не однозначен, и надо сказать, что большинство исследователей творчества художника, как правило, давали ему отрицательную оценку, видя в «Юсуповой» то «портрет модного туалета» (Н. Соколова), то «подобие экзотической птицы», «тоскующей… в золотой клетке» (Е. Журавлева). А между тем это — одно из самых вдохновенных и поэтических созданий великого мастера и, наверное, один из наиболее «стильных» портретов в русской живописи начала нашего века, в котором соединились изысканность и красота с немалой долей манерности, мишурности, суетности.В отличие от аристократки Юсуповой другая не менее известная модель В. А. Серова, Г. Л. Гиршман, которую он неоднократно портретировал в 1906—1911 годах, была типичной буржуазкой. Однако редкая красота этой женщины, ее широкая образованность и огромное личное обаяние привлекали к ней внимание многих художников. В 1906 году Серов рисовал ее сидящей на диване, изысканно-строго одетой в белую блузку и длинную черную юбку. Сделав главными выразительными средствами линию контура, плавную, певучую, и строгий черный силуэт, он противопоставил известной условности графического построения фигуры последовательно реалистическую манеру в изображении лица прекрасной женщины. В овальном портрете Г. Л. Гиршман 1911 года художник, полностью освободив образ от конкретно-бытовой основы, создал произведение, по манере напоминающее работы великого французского художника первой половины XIX века О.-Д. Энгра. Однако «в один из последних сеансов, — писал Грабарь, — он счел нужным поправиться: «Уж теперь не Энгр, а, пожалуй, к самому Рафаэлю подбираемся».
Наиболее известен зрителям портрет Г. Гиршман, созданный им в 1907 году. Исполненное темперой на полотне, формат которого приближается к квадрату, это произведение должно быть причислено к разряду уже рассмотренных нами портретов представительниц «высшего общества». Генриетта Леопольдовна позировала Серову в своем будуаре, богато, но с большим вкусом одетая, окруженная многочисленными предметами, также свидетельствующими о хорошем вкусе хозяйки. Исключительно благороден цветовой строй портрета, живописная поверхность изысканно красива. Замечателен рисунок стройной фигуры женщины, однако в ее очертании художником передана тонко подмеченная манерность позы, движения рук, поворота головы. Искренне любуясь ее прекрасным лицом, автор портрета «адресует» эту необыкновенную красоту непосредственно зрителю. Сам же он скромно «прячется» за холстом, его отражение мы видим справа в зеркале туалетного стола — это единственный случай включения В. А. Серовым автопортрета в свое произведение. Важно отметить, что и в работе над этим на первый взгляд «обстановочным» портретом, в который он ввел немало бытовых подробностей, он видел свою основную цель в создании произведения «большого стиля», что ему, несомненно, удалось прежде всего благодаря широте живописно-пластического обобщения, которой, однако, сама его модель соответствовала далеко не во всем. Видимо, художник это и сам хорошо чувствовал. Не случайно же он сказал И. Э. Грабарю: «Нет, тут надо что-нибудь понаряднее». Будуар мадам Гиршман перегружен вещами ценными во всех отношениях: старинная мебель карельской березы, дорогие зеркала, однако среди хрустальных флаконов, стоящих на туалетном столике, каким-то образом оказалась красная с золотым статуэтка — предмет, способный служить мерилом самого что ни на есть мещанского вкуса. Вводя в картину это «цветовое пятно», явно чужеродное ее живописному строю, Серов вовсе не стремился к тому, чтобы собственными руками «разрушить» свое же творение. Но несомненно и то, что оно внесло в него известную долю суетности, мещанской «нарядности», «высмотренной» нелицеприятным художником даже в столь привлекательной для него модели.
Интересно, можно ли было бы определить словом «нарядный» парадный портрет княгини Ольги Константиновны Орловой (1911), «последний подлинный шедевр Серова, произведение, могущее быть поставленным наряду с величайшими произведениями всех времен» (И. А. Грабарь). Хорошо известно бережное, внимательное отношение художника к классическому наследию. Опыт мирового портрета, в том числе парадного, важной составной частью входил в его творчество, хотя и подвергался глубочайшему переосмыслению. Как один из создателей русского парадного портрета, а по существу, как художник, в творчестве которого завершилась его история, Серов имел великих предшественников во второй половине XVIII — первой половине XIX века, из которых ему ближе всех были Д. Г. Левицкий и К. П. Брюллов. И без того большой интерес к старинному русскому портрету особенно усилился у него после знаменитой «Историко-художественной выставки русских портретов», устроенной в 1905 году С. П. Дягилевым в Петербурге в залах Таврического дворца.
Тему портрета княгини О. К. Орловой, одной из наиболее характерных представительниц петербургского «света», сам автор определил словами, «вложенными» им в уста его героини: «А я Ольга Орлова, и мне все позволено, и все, что я делаю, хорошо». «Некрасивая, в сущности, но изящная и тонкая, неинтересная в разговоре и неумная» — такую характеристику в своей монографии 1965 года дал ей Грабарь. Ну разве не парадокс, что именно эта женщина стала героиней одного из самых совершенных творений В. А. Серова. Самоуверенная, убежденная в своей исключительности, она в отличие от М. А. Морозова не «выскакивает» из картины на зрителя неожиданно, но кажется спокойно царящей в ней, непринужденно расположившись в классически строгом дворцовом интерьере. Однако, подчеркнув вызывающую экстравагантность ее позы, надменное выражение лица, нарочитость «изломанных» жестов рук, острого угла колена, подметив характерную для людей ее круга манеру носить одежду (Орлова была одной из «законодательниц» вкуса и моды), Серов показал, что наряду с природным аристократизмом в облике О. Орловой отчетливо проявились все наиболее «характерные черты декаданса: нервозность, беспокойство, изысканность и вульгарность» (Г. Арбузов). Интересно отметить, что портрет О. К. Орловой, достаточно определенно «обнаживший» не слишком привлекательную человеческую сущность его высокородной заказчицы, не понравился ей и был передан в Русский музей, носивший тогда имя императора Александра III. А между тем это едва ли не лучший из женских парадных портретов В. А. Серова наряду с портретами 3. Н. Юсуповой и Г. Л. Гиршман, а также наряду с самой последней его работой — портретом княгини П. И. Щербатовой (1911), оставшимся незавершенным вследствие его скоропостижной кончины. Что и говорить, за долгие годы творчества В. А. Серову пришлось писать портреты очень и очень разных людей, но в этом полотне, дошедшем до нас в виде подготовительного рисунка углем, выполненного на огромном холсте, вроде бы парадном изображении светской дамы, заключенном в строгий, торжественный антураж, он остался непоколебимо верен своему идеалу — «отрадному», воплощенному в образе прекрасной, гордой женщины.
На переломе эпох
1900—1910-е годы — эпоха в истории России сложная и глубоко противоречивая. Это время первой русской революции, но это также и время глухой общественно-политической реакции. Его трагические диссонансы не только хорошо ощущали, но и очень точно выражали в своих произведениях деятели культуры, дотоле, казалось бы, бесконечно далекие от политической борьбы. Великий поэт, певец «Прекрасной дамы» писал в те годы:
В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле.
Вздохнет униженный народ?
(А. Блок, 1909г.)
Однако еще задолго до того, как прогремела гроза 1905 года, самодержавная Россия жила предчувствием надвигающихся потрясений, все более определенно ощущая «начало своего конца». Напряженная общественная атмосфера, как никогда прежде, стимулировала духовную, в том числе художественную, жизнь. Начались активные поиски нового языка .искусства. На рубеже веков русское изобразительное искусство прошло невероятно сложный путь от утонченного эстетизма «Мира искусства» до глубокого одухотворенного поэтического символизма «Голубой розы» и могучего жизнеутверждения «Бубнового валета».
С художниками «Мира искусства» Серов был связан организационно, но еще более — общностью образно-стилистических исканий, хотя его творчество несравненно более масштабно и полнокровно, нежели мирискусническое. В группу «Мира искусства» входили художники москвичи, будущие мастера «Союза русских художников» и петербуржцы, которых и принято считать «чистыми мирискусниками», зачинателями этого движения. Это — А. Бенуа, К. Сомов, Е. Лансере, Л. Бакст, деятельный организатор выставок, а позднее — знаменитых русских балетных сезонов в Париже С. Дягилев, а также более молодые М. В. Добужинский, Б. Кустодиев, 3. Серебрякова, И. Билибин, А. Головин, А. Остроумова-Лебедева, И. Грабарь, Н. Рерих и некоторые другие художники. «Заслуга мирискусников перед русской художественной культурой, — пишет видный исследователь искусства рубежа веков Д. В. Сарабьянов, — в том, что они «открыли» забытые (к их времени. — В. Р.) сферы национального наследия — русское искусство XVIII века, старую портретную живопись, русский ампир, Петербург с его строгой классической красотой». Будучи убежденными и последовательными «западниками», они (прежде всего старшие из участников объединения) «познакомили русских художников и публику с последними достижениями европейской жвописи и графики, подняли на большую высоту профессиональное мастерство. Они углубились в проблемы специфики искусства и его отдельных видов, что помогло развитию таких областей художественного творчества, как книжная графика, театральная декорация, монументальная живопись. Среди мирискусников были серьезные критики и историки искусства, например Александр Бенуа (а также Игорь Грабарь. — В. Р.). Объединение издавало журнал «Мир искусства». Программные ретроспективисты и стилизаторы, мирискусники, однако, были значительно ближе к современности, чем даже сами они полагали. «В 1905—1907 годах, в период высшего революционного подъема и начавшейся вслед за ним жестокой царской реакции, многие из членов объединения стали деятельными сотрудниками сатирических журналов». Для многих из них «этот период стал целой школой, учившей демократизму, гражданственности, важности и общественной значимости художественного творчества. В этом воскресала традиция русского (демократического. — В. Р.) искусства второй половины XIX века».
У В. Серова, в недалеком прошлом передвижника, эти традиции были значительно более прочными. К тому же в отличие от большинства своих друзей по «Миру искусства» он не только никогда не отгораживался от социальной проблематики, но именно в годы, непосредственно предшествующие первой русской революции, создавал произведения, эмоционально-образный строй которых красноречиво свидетельствовал о его исключительной чуткости к окружающей жизни. Еще в 1899 году им была исполнена акварель «Безлошадный»: старик-крестьянин горюет над тощим трупом своей издохшей лошади, вороны, сидящие на плетне, нетерпеливо ждут поживы, и все это — на фоне серого зимнего дня. Картина проникнута чувством глубокой безысходности. Созданная же в 1904 году в Домотканове пастель «Стригуны на водопое» прямо противоположна ей по эмоциональному строю. Годовалые жеребята — «стригуны» — пьют воду из корыта — большой деревянной колоды. Один из них чутко повернул голову в сторону вечерней зари, как бы вслушиваясь в звуки, вдыхая запахи приближающейся весны. Тревожно светящиеся краски неба, исхоженного, истоптанного сине-лилового снега, красивые силуэты молодых лошадей, прежде всего той, что изображена на фоне заката, — все это придает серовской пастели особенную романтическую приподнятость и эмоциональную заостренность. Деревенская тематика по-прежнему служила художнику надежным средством выражения его целостно-поэтического мироощущения. В своем отношении к революции 1905 года В. А. Серов оказался достойным современником А. А. Блока, А. М. Горького, М. Н. Ермоловой, Ф. И. Шаляпина. В недоброй памяти день «Кровавого воскресения», 9 января, «из окон Академии художеств он был случайным зрителем страшной стрельбы в толпу на Пятой линии Васильевского острова. Атака казаков на безоружный народ произошла перед его глазами; он слышал выстрелы, видел убитых… С тех пор даже его милый характер круто изменился: он стал угрюм, резок, вспыльчив и нетерпим; особенно удивили всех его крайние политические убеждения, появившиеся у него как-то вдруг», — писал впоследствии И. Е. Репин. Очевидно, что пережитое не только не ослабило, но, напротив, упрочило гражданскую позицию Серова, решительно осудившего действия великого князя Владимира Александровича — тогдашнего президента Академии художеств и одновременно командующего войсками Петербургского округа, который дал приказ о расстреле участников манифестации. Вот полный текст заявления, направленного в Академию В. А. Серовым и В. Д. Поленовым (кроме них, никто из художников, включая И. Е. Репина, его не подписал.
«В Собрание Императорской Академии Художеств.Мрачно отозвались в сердцах наших страшные события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей, и в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса. Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над этими войсками, проливавшими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии Художеств, назначение которой — вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов».
Вскоре Серов вышел из состава членов Академии художеств.
Беспощадной остротой отличается его сатирическая графика. Убийственно ироничен образ царя, созданный художником в широко известном листе «1905 год. После усмирения». Маленький, тщедушный Николай II, равнодушно перешагнув через уложенные рядами трупы убитых, держа под мышкой теннисную ракетку, награждает бравых гвардейцев-«усмирителей» Георгиевскими крестами. И все-таки этот рисунок — не просто злая карикатура, острый гротеск. Глубокий подтекст, в том числе и горькие раздумья самого художника о судьбах России, вложен в изображение царя, преступно безразличного к жизни страны, «хозяином» которой он себя мнил. О том, что взойдет из свинцовых «семян», брошенных в русскую землю щедрой рукой Николая Кровавого, говорит другой рисунок «Виды на урожай 1906 года»: легкие пушистые облака плывут над сжатым полем, на котором вместо скирд стоят составленные в «козлы», ощетинившиеся штыками винтовки карателей.
«Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваша слава?» В этом произведении Серов слил воедино многочисленные наблюдения и впечатления тех трагических дней. Застыла, чуть подавшись вперед, перегородив собой узкую улицу, плотная людская масса, над которой в знак мирных намерении манифестантов взметнулся белый платок. На нее стремительно несутся всадники с шашками наголо и карабинами за спиной, увлекаемые офицером, скачущим на вздыбленном коне. Трагической и страшной пародией на конный монумент Петра I работы Фальконе воспринимается эта группа, особенно благодаря угловатому, «колючему» рисунку.
Попробуем сопоставить это произведение с созданным в том же 1905 году А. Н. Бенуа фронтисписом к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник», в котором очень определенно была выражена мысль о малости и ничтожности человека перед лицом неумолимого рока: крошечная фигурка смятенного Евгения на фоне тревожного ночного пейзажа бежит, спасаясь от преследующей ее бронзовой громады сорвавшегося с постамента конного памятника. В рисунке же Серова люди не ищут спасения в бегстве, они сплоченно, мужественно противостоят силам зла — принципиальное отличие его художнической и гражданской позиции от той, что заняли в годы безвременья многие представители творческой интеллигенции.
20 октября 1905 года в Москву В. А. Серов шел за гробом Н. Э. Баумана. Интересное документально-художественное свидетельство его участия в похоронах выдающегося революционера-большевика оставил нам А. М. Горький в романе «Жизнь Клима Самгина»: «Впереди его (Самгина. — В. Р.) шагали двое, один — коренастый, тяжелый, другой — тощенький, вертлявый, он спотыкался и скороговоркой, возбужденным тенорком внушал:
— Ты, Валентин, напиши это, ты, брат, напиши: черненькое-красненькое, ого-го! Понимаешь? Красненькое-черненькое, а?» В «Похоронах Н. Э. Баумана» художник хотел передать торжественность шествия огромной массы людей, на плечах которой, осененный красными полотнищами флагов; плывет красный гроб («черненькое-красненькое!»). И хотя дальше создания эскиза дело не пошло, хорошо ощущается монументальность задуманного Серовым произведения, каким оно, видимо, и стало бы, доведись ему реализовать свой замысел полностью.
Произведения, в которых переплеталось трагическое и героическое, предшествовали созданию портрета А. М. Горького, а также таких капитальных полотен, как портреты М. Н. Ермоловой и Ф. И. Шаляпина (все — 1905). И. Э. Грабарь писал: «Серов упорно искал встреч с Горьким, задумав его большой портрет. Свидеться долго не удавалось, когда же встреча состоялась, то у Горького не было свободных «трех месяцев» — фатального серовского портретного срока. Но что у него была «идея» для портрета Горького, мы это хорошо знаем по начатому портрету и наброскам — эскизам к нему. Для Серова Горький был не только крупнейшим русским писателем, но и первым пролетарским, подлинно народным писателем, открывшим новую эру в нашей литературе. Серов долго искал, как его взять в портрете, чтобы выразить эту свою мысль».
Портрет А.М.Горького. 1905 год.
Как же А. М. Горький был «взят» Серовым? Сопоставив живописный портрет с графическим эскизом к нему, мы увидим, что уже в рисунке каждая линия передает высочайшее напряжение внутренней жизни писателя, присущий ему эмоциональный подъем. Поза Горького, динамичный разворот его фигуры в пространстве, жест руки, прижатой к груди, — все свидетельствует об этом.
Уже в графическом листе взгляд писателя не обращен ни на кого непосредственно, в живописном же полотне, где экспрессивнее стал черный силуэт фигуры, чему в немалой степени способствует ее резкая контрастность по отношению к серебристому фону, Серое так изменил поворот головы, что его взор оказался направленным далеко за пределы портрета. Горький смотрит немного сверху и куда-то вдаль, его портрет писался, как говорят художники, «в плафоне», т. е. Серов во время сеансов сидел заведомо ниже, чем помещалась его модель. Точка зрения снизу вверх, придавая композиции особый динамизм, позволила художнику усилить романтическую приподнятость образа создателя «Песни о Буревестнике» и одновременно придать ему масштабность, почти монументальность.
Во многом сходным с «Портретом А. М. Горького» путем решался Серовым «Портрет Г. Н. Федотовой» (1905), одной из выдающихся актрис московского Малого театра. И здесь в построении композиции он прибегнул к точке зрения снизу вверх, что давало ему возможность трактовать образ артистки в соответствии с масштабом ее огромного дарования. Правда, Гликерия Николаевна Федотова у Серова — прежде всего актриса комическая и характерная, ему не довелось видеть ее в ролях трагического и героического репертуара, созданных ею в молодые годы (Катерина в «Грозе» А. Н. Островского, королева Елизавета в «Марии Стюарт» Ф. Шиллера и др.). Отсюда в отношении художника к старой актрисе заметна легкая, добродушная ирония, вовсе для нее не обидная, хотя И. Э. Грабарь утверждал обратное.’
Этот портрет, точно так же, как и портрет М. Н. Ермоловой, писался по заказу Литературно-художественного кружка — своеобразного клуба, объединявшего многих видных деятелей искусства (преимущественно театра) Москвы.
По мнению И. Грабаря, из заказного портрета Ермоловой «выросла монументальная фигура великой русской трагической актрисы. Перед вами стоит не Ермолова, а сама Драма, даже Трагедия». Художник садился у ее ног на низенькую скамеечку, чтобы видеть всю ее фигуру снизу доверху, отчего она вырастает в масштабе, превращаясь в тот образ, который был ему нужен. «Писать было мучительно тяжко в этой скорченной позе, без возможности не только отойти, но и пошевельнуться, — жаловался Серов. — Но ничего, как будто что-то получилось».
Над этим полотном Серов работал в доме М. Ермоловой на Тверском бульваре. Но с самого начала он избегал житейских подробностей, образ поднят над бытом. Суровый лаконизм колорита, а также его совершенно особое композиционное построение способствовали трансформации портрета в живописный памятник великой актрисе.В свое время выдающийся советский кинорежиссер С. М.
Эйзенштейн, сам тяготевший к монументально-героическим образам, проанализировал его, пользуясь методами своего вида искусства. Он писал: «Портрет этот очень скромен по краскам. Он почти сух по строгости позы. Одна черная вертикальная фигура на сером фоне стены и зеркала… Необыкновенный эффект достигнут тем, что здесь применены действительно необыкновенные средства воздействия композиции», «которые по природе своей, по существу, уже лежат за пределами того этапа живописи, к которому-еще принадлежит сама картина», «но и за пределами узко понимаемой живописи вообще». Эйзенштейн обнаружил, что прямые линии плинтуса, филенки, отделяющей окрашенную в более темный цвет нижнюю часть стены от верхней — более светлой, а также рама зеркала с отраженной в нем частью потолка и лепного карниза, как бы «режут» фигуру на отдельные «пояса». «Абрис первой линии охватывает фигуру в целом — «общий план в рост». Вторая линия дает нам «фигуру по колени». Третья — «по пояс» (она проходит через один из важнейших психологических «узлов» портрета — руки актрисы, скрещенные в величественном, скорбном жесте. — В. Р.). И наконец, четвертая — дает нам типичный «крупный план»… От кадра к кадру крупнейший образ самой Ермоловой доминирует над все более и более расширяющимся пространством». Последнее замечание режиссера особенно важно. Дело в том, что линии, «режущие» изображение на отдельные фазы, проведены не параллельно друг другу, но расходятся слева направо, благодаря чему фигура Ермоловой, прочно вписанная в монументальную плоскость картины, кажется медленно «наплывающей» на зрителя.
Многие наши художники, начиная с В. Васнецова, в конце прошлого века заново «открывали» для себя композиционно-пространственные приемы древнерусского искусства и в первую очередь так называемую «обратную перспективу» — важнейшее средство монументализации образа. Вовсе не случайно паркетный пол в портрете Ермоловой незаметно «переходит» в плоскость стены, на которую Серов спроецировал четкий силуэт ее величественной фигуры, уподобив ее колонне, видимой нами одновременно и сверху вниз, при этом край платья приобретает значение ее основания — «базы», и снизу вверх, причем голова Ермоловой начинает восприниматься как своеобразная «капитель». Несколько отделенное от черного силуэта фигуры жемчужной нитью, ее лицо, отмеченное выражением скорбного величия, озаренное «внутренним огнем и светом вдохновения» (С. Эйзенштейн), оказывается в «двойном обрамлении» — угла рамы зеркала и отраженного в нем карниза, при этом возникает полное ощущение того, что «муза Трагедии» непосредственно у нас на глазах вырастает в своем величии.
В сходном с «ермоловским» ключе решен портрет Ф. И. Шаяпина — огромный рисунок углем на холсте. Могучая фигура великого певца, потрясшего Россию 1905 года исполнением «Дубинушки», представлена во весь рост, его вдохновенное, властное лицо обращено к зрителю.
Среди тех, кто позировал Серову в эти годы, хочется назвать основоположников тогда совсем еще молодого, но столь близкого ему по творческим исканиям Московского Художественного театра К. С. Станиславского, В. И. Качалова, И. М. Москвина, послуживших ему моделями для небольших, но очень выразительных графических портретов. Образы людей искусства — актеров, писателей несут в себе высокий гуманистический идеал.
В начале века Серов пишет произведения на сюжеты русской истории. В них он оказался значительно ближе к передвижникам по духу, к интуитивно верному пониманию общественных процессов, а также — роли личности в истории, нежели к своим собратьям по «Миру искусства», «историческое мироощущение» которых было окрашено скептицизмом и отмечено иногда весьма едкой, но чаще грустной самоиронией. Серов уже в первых своих исторических опытах — иллюстрациях к книге Н. И. Кутепова «Царские охоты», таких, как «Император Петр III с цесаревною Елизаветою Петровною выезжает верхом из села Измайлова на псовую охоту» (1900), «Петр I на псовой охоте»,
 Выезд ЕкатериныII на соколиную охоту. 1902 год.
Выезд ЕкатериныII на соколиную охоту. 1902 год.
«Выезд Екатерины II на соколиную охоту» (оба — 1902), — выступая как последовательный мирискусник в выборе техники (темпера), в изобразительной манере (декоративно-плоскостное построение линейно-цветовой композиции), принципиально отличался от них в главном — во взгляде на историю. Для Серова она — отнюдь не «костюмированный бал», разворачивающийся на фоне красивых «декораций». Так, его Петр III и Елизавета бешено скачут на резвых конях в пейзаже с хмурым небом, покосившимися избами, старинной церковкой, над которой с громкими криками мечется стая птиц; с изумлением взирают на блестящую кавалькаду нищие крестьяне-странники…
В начале 1900-х годов он исподволь подходит к образу Петра I, воспринимая его, по меткому определению А. В. Бакушинского, как фигуру «страшную». «Он уже страшен тогда, когда смотрит в молочные дали Финского залива из окна своего Монплезира («Петр I в Монплезире», 1911. — В. Р.). Он страшен в развлечениях — в мотиве с кубком «большого орла» («Кубок большого орла», 1910. — В. Р.). Он страшен всякому встречному, разъезжая в своей одноколке по созидаемой стране («Петр I на работах»), 1910—1911. — В. Р.). Но всего страшнее и всего значительнее вышел у Серова Петр — строитель «Санкт-Питербурха» («Петр I», 1907. — В. Р.). Тематически картина дана как символическое обобщение, как образ большой силы. Эпоха петровских преобразований получила в ней своеобразное и исключительно острое толкование. В сущности, по Серову — это титаническое, «страшное», личное дело человека-циклопа… Он одинок и трагичен в своих нечеловеческих усилиях. Он был бы карикатурен, если бы не был ужасен. Его свита только карикатурна. Его движения, выраженные ломаными линиями, повторяемые в движениях фигур свиты, — ужасное судорожное presto эпохи». Музыкальным термином, означающим быстрый, стремительный темп, очень точно обозначен напряженный динамизм созданного художником исторического образа. Петр действительно «страшный», угловатый в движениях, широко шагает на своих «деревянных» ногах. Его длинная фигура полностью попадает на изображение неба, благодаря чему она кажется гигантской, а само это сравнительно небольшое произведение — монументальным. Не случайно же в картине, где резкий ветер буквально сминает фигурки спутников царя-великана, мы не находим стремительно летящих по небу рваных туч. Спокойная торжественность поднимающихся ввысь облаков лишь усиливает величественность созданного Серовым образа петровской России. В целом же картина «Петр I» отмечена чувством исторического оптимизма, несмотря на то что создавалась она в поистине страшное время — осенью 1906 — зимой 1907 года.
Вскоре Серов вместе с Л. Бакстом уехал в Грецию, но и сюда, на прекрасную землю древней Эллады, доходили тяжелые известия о жестоких репрессиях и казнях: «Опять весь российский кошмар втиснут в грудь. Тяжело. Руки опускаются как-то, и впереди висит тупая мгла». Поездка в Грецию, как некогда в юности в Венецию, сказалась на всем позднем творчестве В. Серова. Друзья знакомились со страной, переживали бурный восторг перед великими памятниками античной культуры, перед красотой людей, многие из которых могли бы послужить моделями для древних ваятелей (особенно поразила художников красота юных гречанок), а главное — стремились найти современную, свободную от многовековых традиций «манеру изображения греческого мифа» (Л. Бакст), т.е. выразить свое особое мироощущение через «вечные» образы древних преданий. Л. Бакст, видный станковист и еще более известный театральный художник, не раз обращался в своем творчестве к античным мотивам. Созданная им после посещения Греции картина «Terror ап-tiguus» («Древний ужас») (1908) способна вызвать в памяти зрителей легенду о гибели Атлантиды: вспышка гигантской молнии освещает увиденный сверху мир, затопляемый ринувшимся на материк морем. Гибнет великая цивилизация, но спокойной и невозмутимой остается отвернувшаяся от этой поистине космической катастрофы архаическая статуя богини Афродиты, на груди которой ищет спасение синяя птица — символ счастья. Однако мысль картины о конечном торжестве «вечной женственности» (Вяч. Иванов) — главного залога победы любви и жизни Бакст явно «затемнил» нарочитой сложностью символического подтекста. Серов же в своем подходе к образам античности был «проще», им двигало желание передать целостно-поэтический мир древних легенд. Пребывание в Греции в значительной степени выровняло трагический «перекос», образовавшийся в душе художника, иначе трудно объяснить светлую гармоничность его античных полотен.
Похищение Европы. 1910 год.
В основу картины «Похищение Европы» (1910) положена легенда о Зевсе, который, превратившись в могучего Быка, похищает финикийскую царевну Европу и увозит ее на остров Крит. Признанный станковист, Серов создает произведение в новом для себя виде живописи — декоративном панно. Творчески переосмысливая, глубоко переживая «дух» (а не просто копируя приемы) искусства древнего Средиземноморья — Египта, минойского Крита, архаической Греции, используя выразительные возможности линии, в частности ее ритмические свойства, цветового силуэта, Серов решительно избегал стилизаторских ухищрений, характерных для модерна, одним из создателей которого в России он являлся. Художник сумел решить сложнейшую задачу — гармонично сочетать в своем произведении объемно-пространственное и линейно-плоскостное начала. Упругая линия высокой волны разделяет воду и небо, разбросанные по поверхности воды густые «пятна» синего цвета, изображающие рябь, передают ее движение и одновременно «держат» картинную плоскость, точно так же, как и четкие контуры, насыщенно-цветные силуэты быка, женской фигурки, упругие очертания дельфинов. Особую цельность композиции придает единство покоя и движения, повторяемость ритмов, а также чистые, благородные краски, поразившие Серова и в природе Эллады, и в ее древнем искусстве.
В картине «Одиссей и Навзикая» (1910) герой Гомера бредет по берегу моря вслед за запряженной мулами колесницей «высокостройной» царевны Навзикаи, за ее рабынями, несущими на коромыслах тюки с бельем. За беспредельной простотой сюжета Серов чутко уловил эпическую основу гомеровского образа и искал ему точный изобразительный эквивалент. Однако «мотив шествия» (А. Бакушинский), к которому до этого он уже дважды обращался («Похороны Баумана», «Петр I»), здесь не просто получил дальнейшее развитие, но и приобрел совершенно новый смысл. Видимо, не случайно на пути Навзикаи и ее спутников Серов поместил камень, тем самым «остановив» движение, лишив его мотивированного сюжетом смысла. Шествие Навзикаи он уподобил античному скульптурному фризу. Существует множество эскизов к «Одиссею и Навзикае», некоторые из них скомпонованы на листах горизонтального формата, другие по пропорциям приближаются к квадрату. Трудно сказать, какие сделаны раньше, а какие позднее.
Известно только, что еще в 1903 году, т. е. задолго до путешествия в Грецию, Серов уже думал о «Навзикае», и видимо, не случайно в том варианте картины, который нам представляется окончательным (1910, Гос. Третьяковская галерея), мы не находим интенсивных красок юга. Ее колорит мог быть навеян ему финской природой: высокое небо, легкие облака, искрящаяся серебристой рябью холодная синева воды, мокрый песок. В этом пейзаже, по-северному сдержанном, но оттого особенно величественном, художник развернул шествие своих героев, не менее торжественное, чем изображение панафинейской процессии древних афинян на скульптурном фризе Парфенона. Иной, отличный от греческого, строй пейзажа позволил ему раздвинуть границы образа, заключенного в древнем сказании, придав ему поистине вечное, общечеловеческое содержание, подобное тому, которое еще в 190S году он сумел вложить в картину «Купание лошади». И ее «главный герой» серебристый, холодный свет, излучаемый синевато-свинцовой поверхностью Финского залива, гребешками легких волн, небом, высоким и прозрачным, и даже гладкой, блестящей шерстью коня, и фигура купающего его мальчика очень напоминают изображения на древнегреческих вазах. Конечно же, Серов хорошо знал античное искусство задолго до того, как побывал на его родине. В этом произведении, как и в работах на мифологические сюжеты, он выступил не как стилизатор-модернист, но как подлинный реалист, если, конечно, под реализмом понимается не свод затверженных правил, а высокая художественная правда, которая делала Серова настоящим гигантом даже в том окружении высокоталантливых мастеров, вместе с которыми ему довелось творить.
В последние месяцы жизни он все более упорно стремился реализовать свои искания в области монументально-декоративной живописи. Для столовой дома В. Носова в Москве, построенного архитектором И. Жолтовским, Серов разработал целый цикл графических и живописных эскизов на сюжет «Метаморфоз» Овидия («Диана и Актеон» и др.), среди которых близок к законченности был лист «Аполлон и Диана, избивающие детей Ниобеи» (1911). Только необыкновенной отзывчивостью Серова на все лучшее, что было в мировом художественном наследии, а также его высочайшей культурой можно объяснить создание произведения, в котором оказались необыкновенно гармонично сплавлены элементы древневосточного и греческого (главным образом архаического) искусства. Впрочем, высокая простота, строгая чистота стиля поздних серовских работ вызывали у его современников не только восхищение. Некоторых из них, особенно тех, кто привык к претенциозной вычурности художественного языка модерна, она повергала в тревожное недоумение.
Эскиз костюма Олоферна к опере А. Серова «Юдифь». 1898 год.
Для постановки оперы своего отца А. Серова «Юдифь» в петербургском Мариинском театре (1907) он исполнил эскизы декораций, костюмов, грима, а также написал портрет Ф. И. Шаляпина в роли царя Олоферна. Создавая занавес к балету «Шехерезада» (1910) на музыку Н. А. Римского-Корсакова, Серов не просто следовал стилю средневековых персидских миниатюр, которые он внимательно изучал, но, как и во многих других случаях, внутренне «перевоплощался», вживаясь в изображаемую эпоху настолько органично, что образ, им созданный, безусловно, убеждал и зрителей.
Эпический, легендарный Восток и современность встретились и вступили в сложное, но удивительно гармоничное взаимодействие в портрете знаменитой танцовщицы Иды Львовны Рубинштейн (1911), который Серов писал «с большим удовольствием. Да и как иначе! Не каждый день приходится делать такие находки. Ведь этакое создание… Ну что перед нею все наши барыни? Да и глядит-то она куда? — В Египет». Фон, слегка подцвеченный темперой рисунок углем, воспринимается как неотъемлемая часть изображения, напоминающего древневосточные рельефы или же рисунки на сероватых плитах песчаника. Кажущаяся экстравагантность модели не может скрыть ее незащищенности, внутреннего драматизма, чему в немалой степени способствует нагота. Не случайно же Серов, говоря о своей «Иде Рубинштейн» — «бедная, голая», подчеркивал, что «у нее рот раненой львицы». Как ни странно, но это произведение современниками понято не было. Художника «упрекали в модернизме. Репин пришел в отчаяние от своего бывшего ученика», хотя при этом старый мастер не мог не отметить, что «Ида Рубинштейн» «выделялась, когда судьба забросила на базар декадентщины», как он назвал очередную выставку «Мира искусства», состоявшуюся в Москве уже после смерти ее автора в декабре 1911 года. Однако изысканность и строгая «стильность» этого портрета дают все основания считать его одним из самых совершенных творений позднего Серова, точно так же, как и изображение великой русской балерины Анны Павловой в плакате для дягилевской постановки в Париже одноактного балета «Сильфиды» («Шопениана») на музыку Фредерика Шопена (1909). На синем фоне (бумага), скупыми техническими средствами (уголь, мел), художник сумел достичь полной иллюзии парения, передать легкость, воздушность ее танца, грацию и изящество, бывшие «второй (а может быть — первой) натурой» гениальной танцовщицы.
B.А. Серов — педагог и общественный деятель
Педагогическую и общественную деятельность В. Серова нельзя рассматривать в отрыве от его творчества. С 1897 года он стал преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, сменив известного художника-передвижника К. Савицкого. Не так-то просто было войти в число педагогов училища, в котором преподавали такие крупные русские художники, как В. Перов, И. Прянишников, В. Маковский, Е. Сорокин. В одни годы с Серовым там работали А. Архипов,
C.Иванов, В. Бакшеев, Н. Касаткин, братья С. и К. Коровины (последнего пригласил он сам), Л. Пастернак, И. Левитан, выдающийся скульптор П. Трубецкой, а среди педагогов, ведущих научные дисциплины, мы находим знаменитого историка В. Ключевского. И если когда-то в 1870— 1880-х годах в Московском училище все «жило» и «дышало» Перовым (М. Нестеров), то на рубеже прошлого и нынешнего веков «столпом» училища и общим «любимцем» стал В. Серов (К. Петров-Водкин). Народный художник СССР Мартирос Сергеевич Сарьян вспоминал о своем учителе: «Валентин Александрович был чрезвычайно молчаливым человеком, но слово, произнесенное им, действовало чрезвычайно сильно… Своим присутствием, иной раз простым движением головы он заставлял ученика уверенно продолжать свою работу». А из записок Н. Ульянова мы узнаем, что свою преподавательскую деятельность Серов начал с того, что вместе с учениками сел рисовать натурщика — молодого, крепкого парня. «Где же это видано, чтобы преподаватель, «уважающий себя» и дорожащий своим авторитетом, прославленный художник, рискнул на этот очень неосторожный шаг. А Серов сидит на верхней парте и делает то, что делают все: спокойно, сосредоточенно рисует, забыв об окружающих». Серов не был педагогом-теоретиком, он учил молодежь своим примером, а учиться у него было нелегко, так как он всегда ставил перед будущими художниками творческие сверхзадачи, как всю жизнь ставил их перед самим собой. С годами Серов отнюдь не становился ретроградом, однако его серьезно тревожило то, с какой поспешностью молодежь перенимала отдельные приемы мастеров новейшего западного, прежде всего французского, искусства, не всегда умея разобраться в сути их исканий. Сам он долго и трудно шел к пониманию искусства Поля Сезанна, и теперь, когда речь заходила о молодых Пабло Пикассо и Анри Матиссе, он ясно осознавал, что для того, чтобы стать «передовым», «современным» художником, недостаточно простого подражания этим мастерам. Он говорил: «Европейцы — умный народ: научили они нас глаза таращить, так давайте ими свое (выделено нами. — В. Р.) высматривать». В 1909 году Серов покинул училище. Непосредственным поводом к его уходу послужил категорический отказ дирекции на ходатайство известного скульптора Анны Семеновны Голубкиной, просившей разрешить ей вернуться в училище, где она уже занималась в конце 1890-х годов. Причиной отказа была «неблагонадежность» Голубкиной, судимой за революционную деятельность в 1905—1907 годах. Заступничество Серова не помогло, и как незадолго до этого он вышел из Академии художеств, теперь он должен был расстаться с училищем, которому отдал много физических и душевных сил. Современники отмечали, что после ухода такого крупного художника, авторитетного педагога и принципиального человека позиции Московского училища живописи, ваяния и зодчества заметно ослабели.
Начиная с 1899 года В. Серов был постоянным членом Совета Третьяковской галереи. В. Серов, И. Остроухов, А. Боткина (дочь П. Третьякова) выступали как достойные продолжатели великого дела основателя музея. Пополняя собрание произведений русского классического искусства, они открыли доступ в коллекцию работам своих современников: М. Врубеля, мастеров «Мира искусства», М. Сарьяна и др. Борьба против недоброжелательства со стороны некоторых официальных лиц, определенной части публики и реакционной прессы требовали от Серова и его друзей немалого мужества. В своей книге «Пятьдесят восемь лет в Третьяковской галерее» один из старейших служителей музея Н. Мудрогель писал: «В галерее Серов руководил построением экспозиции… Ходит, бывало, по залам, смотрит, думает, мысленно примеряет. Потом молча покажет мне рукой на картину и потом место на стене, и я уже знаю: картину надо вешать вот именно здесь. И когда повесим, — глядь — экспозиция вышла отличная… Иногда он нарисует, как должны быть расположены картины, — и замечательно хорошо это у него выходило». Чутье художника, безупречный акус помогали ему и в музейной работе.
Серову никогда не жилось легко. Ему были хорошо знакомы и материальные затруднения, большая семья (пятеро детей) требовала немалых средств, а уж сколь велики были затраты душевных сил, которые к тому же ничем не компенсировались, знал только он один. Если Серов видел, что люди, в том числе и самые близкие друзья, поступаются своей совестью, он прекращал с ними всякие отношения. В январе 1911 года он узнал о том, что во время исполнения гимна перед спектаклем, премьерой оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», в Мариинском театре в присутствии Николая II и членов царской семьи Шаляпин вместе с хором пел его, стоя на коленях. Передовые деятели русской культуры, в том числе В. Серов, не могли знать о том, что это было сделано певцом не из верноподданических чувств, хотя реакционная пресса именно так старалась приподнести этот и без того достаточно неприятный для великого артиста факт. Не случайно многие друзья, огорченные непостижимым для них поступком Ф. Шаляпина, отвернулись от него. «Как это могло случиться, — недоумевал и возмущался Серов, — что Федор Иванович, человек левых взглядов, друг Горького, Леонида Андреева, мог так поступить. Видно, у нас в России служить можно только на карачках». Серов «написал Шаляпину письмо, и они больше не видались» (воспоминания О. В. Серовой).
Уходили из жизни друзья. 1 апреля 1910 года скончался М. Врубель. 3 апреля в Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря состоялись похороны великого художника. Фотография запечатлела участников траурной церемонии, среди них А. Блок и В. Серов. «Скучный Серов» — такую подпись сделал Валентин Александрович под автошаржем, исполненном в том же году. В последние годы жизни он продолжал работать с огромным напряжением, хотя был уже тяжело болен. Еще в 1903 году он перенес сложную операцию, все настойчивее начинало заявлять о себе усталое сердце. В одном из его писем к жене читаем: «Ты мне все говоришь, что я счастливый и тем, и другим, и третьим — верь мне — не чувствую я его и не ощущаю. Странно, у меня от всего болит душа. Легко я стал расстраиваться». Серьезно беспокоило Серова, что будет с материально не устроенной семьей в случае его смерти.
Скончался В. Серов скоропостижно, как за сорок лет до того умер его отец. Это случилось в 9 часов необыкновенно яркого солнечного утра 22 ноября (5 декабря по н. ст.) 1911 года. В одном из многочисленных некрологов говорилось: «Сегодня умер большой художник. Но сегодня умер и большой, благороднейшей души человек, который своею работою и своею жизнью возвышал и звание художника и достоинство человека». В. Серов был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве, в 1939 году его останки были перенесены на кладбище московского Новодевичьего монастыря.
Современники хорошо знали и высоко ценили его творчество, уже при жизни к В. Серову пришла широкая европейская известность, его произведения неоднократно представали на различных выставках перед искушенной и взыскательной парижской публикой, а знаменитая галерея Уффици во Флоренции предложила ему написать автопортрет для включения его в свое собрание автопортретов величайших мастеров мировой живописи. Последний большой прижизненный показ его работ состоялся в Риме на Всемирной выставке 1911 года, и сам художник видел эту экспозицию. Посмертная выставка его произведений была организована в 1914 году. На современников она произвела огромное впечатление — как много за сравнительно недолгий срок жизни, всего сорок шесть лет, успел сделать этот великий труженик. В советское время наиболее значительными были персональные выставки произведений В. Серова, устроенные в крупнейших наших музеях Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее в 1935, 1958—1959 и в 1965 годах. Последняя из них, очень полная и представительная, была посвящена 100-летию со дня его рождения. Литература о жизни и творчестве Серова столь обширна, что дать пусть даже самый краткий ее обзор практически невозможно, и лишь некоторые наиболее значительные труды исследователей, а также мемуары указаны в конце брошюры.
Завершить наш сравнительно короткий монографический очерк жизни и творчества Валентина Александровича Серова хочется словами Ф. И. Шаляпина: «Серов был великий молчальник, кратки были его слова и дли-н-н-н-о было его молчание». Да, «молчание» Серова, «длинное» и углубленно мудрое, составляет смысл и содержание его жизни, его возвышенного и очень человечного искусства.
В. Б. Розенвассер
Творческое наследие Валентина Александровича Серова принадлежит к высшим достижениям отечественной культуры. Среди плеяды замечательных мастеров русской живописи конца 19 — начала 20 века трудно назвать другого художника, чей профессиональный, нравственный авторитет был бы столь же велик и несомненен, чьи открытия имели бы такой широкий резонанс в развитии изобразительного искусства нашего столетия.
Принято говорить о «многоликости» искусства Серова. Действительно, его творчество поражает богатством и разнообразием художественных решений, способностью художника одинаково глубоко проникнуть в душу человека и сущность социальных явлений, найти специфические средства выражения для воплощения индивидуальности конкретного человека и поэзии мифа, особой повадки животных и «лоска» светской жизни. И в то же время искусство Серова отличается особой духовной цельностью и ясностью, ощущаемой в нем высотой и принципиальностью личности живописца.
Формирование художника происходило в исключительно благотворных условиях. Его отец — известный композитор и критик Александр Николаевич Серов, дружил со многим», крупнейшими писателями, музыкантами, живописцами, актерами. Мать, Валентина Семеновна, также композитор и пианистка, была тесно связана с кругами революционно настроенной интеллигенции и, воспитывая сына в демократическом духе, с детства привила художнику обостренное чувство справедливости, сочувствия народной судьбе.
Когда Серову было восемь лет, на его способности к рисованию обратил внимание И. Репин. У Репина, а также у П. Чистякова во время обучения в петербургской Академии художеств он получил важнейшие уроки художественного мастерства.
Большую роль в определении духовного и творческого облика художника сыграло то, что годы его юности прошли в удивительной атмосфере Московского художественного кружка, сплотившегося вокруг тонкого ценителя и покровителя искусств Саввы Ивановича Мамонтова. Подмосковное имение Мамонтова «Абрамцево» с его «свободным и живительным воздухом» (С. Аксаков) было в то время единственной в своем роде обителью «служенья муз», поклонения всем проявлениям «живой жизни» — живому русскому слову, одушевленным, сердечным отношениям людей друг к другу и к природе. Старшими товарищами и наставниками Серова стали в эти годы В. Поленов, В. Васнецов и другие передвижники; друзьями и соратниками по новаторским поискам, а порой и веселым развлечениям — талантливейшие из сверстников К. Коровин, М. Врубель, И. Остроухов, М. Нестеров. В Абрамцеве появились на свет первые зрелые работы Серова, среди которых особое место занимает этапная для развития русской живописи картина «Девочка с персиками» (1887).
В этом удивительно свежем, полном легкого дыхания и какого-то счастливого чувства радости жизни произведении Серов сумел не просто передать обаятельный образ Веры Мамонтовой, дочери владельца Абрамцева, но и нечто большее. Словно сама поэзия безмятежного детства, отрадная красота неискаженных человеческих чувств (то, что Л. Толстой, любимый писатель и человек Серова, называл «истиной наивности») воплотились в чистом, радужном многоцветий этой картины.
Звучная нежность цвета, импрессионистическая светоносность отличают и другой шедевр молодого Серова — созданную им в 1888 году в Домотканове (усадьбе друга художника В. Дервиза) картину «Девушка, освещенная солнцем», моделью для которой послужила родственница Валентина Александровича, художница М. Симонович.
Искренний, чистый человек явился в ранних полотнах Серова. Особая духовная цельность и совершенство этих произведений поставили художника в центре и во главе нового поколения живописцев, стремившихся в то «сумеречное» время противопоставить «разрывчатой» действительности «правду сердца» (К. Коровин), веру в поэтическую сущность жизни. В дальнейшем судьба Серова сложилась так, что ему приходилось работать во многих жанрах, писать далеко не «отрадные» модели и сюжеты. Но ранние картины, в которых воплотилась самая сердцевина мироощущения Серова, оставались его любимыми произведениями. До конца дней в его чрезвычайно разностороннем, многообразном по стилевым решениям творчестве жила, была камертоном его отношения к действительности сокровенная тема утверждения светлой сущности «органической природы человека».
Особая чуткость к состояниям и «настроениям» природы в связи с живущим среди нее человеком определила совершенство написанных Серовым пейзажей. В некоторых из них, посвященных деревенской России, чувство гармонии и скромной прелести осенних полей осложнялось невеселыми размышлениями о скудости жизни народа на этой многострадальной земле («Октябрь. Домотканово», 1895). В иных же пейзажах побеждает солнечное, жизнеутверждающее начало. Так, подобно пушкинскому «Да скроется тьма!», воспринимается мажорный образ сияющего мира в картине «Купание лошади» (1905).
Чрезвычайно значительно и многообразно портретное наследие Серова. Аккумулируя достижения психологического портрета передвижников, овладевая традициями старых мастеров, близко соприкасаяеь с поисками русских и западноевропейских художников (лрежде всего модерна), Серов создал уникальную галерею образов своих современников. Особенно любил писать Серов людей, в которых наиболее чисто и ясно проявляет себя прекрасная сущность жизни: детей, хранящих душевное изящество женщин, подлинных интеллигентов — носителей воли к совершенству мира.
Тема утверждения человека-артиста, творца нашла замечательное воплощение в портретах писателей Н. Лескова (1894), А. Чехова (1901), художников К. Коровина (1891) и И. Левитана (1893), певцов А. Мазини (1890) и Ф. Шаляпина (1905), актрисы М. Ермоловой (1905), создателей Художественного театра.
Серову пришлось много работать над заказными портретами — писать членов царской фамилии, аристократов, промышленников. И в таких работах, нередко изображающих носителей ложных ценностей, чуждых подлинной человечности, он находил возможность остаться верным себе, соединить в художественных решениях красоту и эффектность живописи и выражение своего неприятия пошлости, высокомерия, претенциозности или грубого солдафонства (портрет великого князя Павла Александровича, 1897; портрет кн. О. Орловой, 1911, и др.). Художник разработал целый «арсенал» оценочных приемов и средств, помогавших ему насыщать изображения ассоциативно-образным смыслом. Сама природа формальной системы Серова, ценностно-психологическая ткань его живописи, мастерство рисовальщика-физиономиста позволяли ему создавать характеристики, поражающие обилием и тонкостью смысловых обертонов.
Принципиальность, преданность Серова «трем правдам — социальной, человеческой, художественной» выражались и в его гражданском мужестве. Во время революции 1905 года он не только участвовал в сатирических антиправительственных изданиях, исполнил такие замечательные работы, как «Солдатушки, бравы ребятушки…» (изображающую расправу карателей над демонстрантами), «Похороны Баумана», но и в знак протеста против расстрелов вышел из состава Академии художеств, во главе которой стоял главнокомандующий петербургскими войсками.
Живя в небывало сложное, переломное для исторических судеб России время, Серов много размышлял о прошлом родины. Обладая тонким и острым чувством исторического стиля (это особенно сближало Серова с деятелями «Мира искусства», членом которого он являлся), художник создал ряд замечательных работ, посвященных эпохе Петра I и его преемников. В конце жизни Серов обратился к мифологическим сюжетам, в которых искал возможности передать свои представления о поэтических основах бытия, мечты о светлом согласии человека и мироздания в обобщенной символической форме («Похищение Европы», 1910; «Одиссей и Навзикая», 1909—10). Эти «неоклассические» произведения стали ярчайшим образцом поисков «большого стиля», которые Серов вел в последние годы своей преждевременно оборвавшейся жизни (он умер 46 лет от болезни сердца). Поистине велики достижения Серова и в анималистическом жанре, в иллюстрации, в театрально-декорационном искусстве. Огромную пользу принес Серов как член Совета Третьяковской галереи, возглавившего после смерти ее основателя собирательскую и экспозиционную деятельность главного музея русского искусства.
Тесно связанный с традициями русской живописи 19 века, развивавший в новых условиях 20 века достижения и социально-нравственные принципы передвижников (он говорил:
«Я, извините за выражение, реалист.») Серов в тоже время был чрезвычайно мыслящим, открытым новаторским поискам в искусстуе, художником. Не случайно именно в его мастерской (Серов преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с 1898 по 1909 годы) вышли многие замечательные художники, последующих «формаций» — «голуборозовцы» — Сарьян, Петров-Водкин, П.Кузнецов, «бубновалетовцы» — И.Машков, В.Рождественский и др.
Кузнецов писал Серову: «Вы, как отец -…единственный, кому можно верить».
А Маяковсеий на похоронах Серова говорил: «Лучшее чествование светлой памяти покойного — следование его заветам, одним из которых было искание в искусстве».
Независимо от направлений, лучшие художники чтили особую этическую значительность творчества Серова.
«Он стоял перед нами как путь, путь самой жизни» — (Андрей Белый)