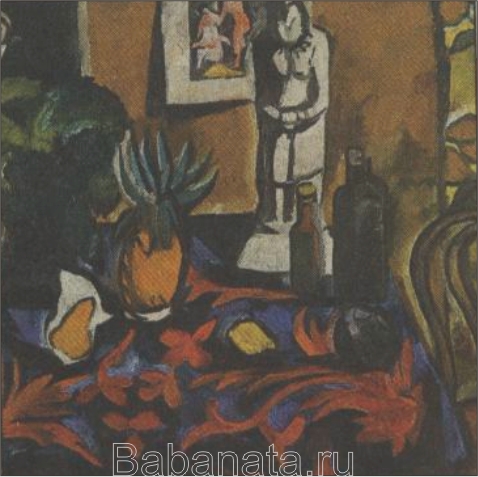Гончарова Наталья
Гончарова Наталья
Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1962) — русский художник.
Натюрморт с ананасом.
«Мистические образы войны» Натальи Гончаровой и «Война» Ольги Розановой ‘ до сих пор не привлекали пристального внимания исследователей. Эти графические циклы занимают совершенно особое место в истории русской печатной графики XX века.
Эскиз костюма к балету «Литургия» 1914 год.
Как явления художественной жизни они уникальны и настолько своеобразны, что им трудно найти прямую аналогию не только в русском и западном искусстве этого периода, но и в творчестве создавших их мастеров. Практически в русской графике 1914—1916 годов не было столь заметных, непосредственно вдохновленных войной и ей посвященных произведений, давших столь глубокое, символическое прочтение темы.
Cв.Георгий
Исключение, пожалуй, составляют альбом А.Е.Крученых «Вселенская война» (1916) — где автор решает проблему на беспредметных формах, «моделирует» войну 1985 года, создавая адекватную действительности структуру диссонанса, «злогласа» в сфере цвета и формы, и книга Филонова «Пропевень о проросли мировой», о которой Велимир Хлебников писал как о лучшем, что создано о войне…
Британский Лев.
Военные сюжеты, мотивы сконцентрировались прежде всего в графике — в жанре фронтовых набросков, бытовых зарисовок, «документальных» портретов — и, как правило, военная тематика реализовалась лишь в появлении новых героев, аллегорий, образов (но не образности), введенных в старый привычный контекст (на него как бы «надевалась» военная форма).
Французский Петух.
В первые же месяцы войны устраивается множество патриотических выставок, издаются художественные альманахи, альбомы, открытки на военную тему, в которых в довольно посредственном «массовом» варианте соединялись традиции сатирической графики 1905—1907 годов и позднего мирискуснического плаката.
Пересвет и Ослябя.
Успехи России на фронте в начале войны послужили причиной возникновения и распространения массы лубков—в том числе и стилизованных под старые образцы листов Шарлеманя, Нарбута, Митрохина, и футуристических лубков Лентулова, Малевича, Маяковского, Чекрыгина. Характерно, что и Гончарова определяет жанр своего цикла как лубок.
Архистратиг Михаил.
Особенности социального бытования искусства в военный период 1914—1915 годов определили попытку возрождения традиции лубка как жанра народного искусства и «искусства для народа».
Христолюбивое воинство.
Для русских футуристов с их неопримитивистскими корнями, программным «отказом от индивидуальности», идеей «жизни для искусства и искусства для жизни» лубок в первую очередь был привлекателен своей «фабульностью» примитива, возможностью проникнуть в феномен синтетического художественного языка, действительно универсального, понятного всем.
Англы и аэропланы.
Тема войны, в какой-то степени являясь остросоциальной темой, заставила не столько «писать о войне», сколько «писать войною» 
Конь Блед.
Неожиданное и глубокое осмысление она получила в живописи и графике авангардистов— молодого поколения, в судьбы которого война вторглась непосредственно и резко.
Братская могила.
В этот ураган попали Кончаловский, Рождественский, Лившиц, Каменский, Ларионов Митурич, Ле-Дантю, Шевченко, Чекрыгин, Филонов, Малевич… Почти все они так или иначе обращались к военной теме, и одним из самых первых откликов на нее стал цикл Наталии Гончаровой «Мистические образы войны», бесспорно, оказавший влияние на современников, запомнившийся, хотя и не получивший сразу достаточного резонанса.
Эскиз к литографии «Дева на звере».
Гончарова соединила новаторство с твердой опорой на национальную традицию. В короткой рецензии на ее альбом литографий Сергей Бобров справедливо заметил, что «здесь мы впервые видим войну глазами русского художника»7.
Символический, универсальный смысл войны, «вселенскость» этого понятия несомненно предполагала эпическую трактовку, завершение той темы, которую Гончарова предчувствовала во всей «великанскости» (определение М.Цветаевой) своего творчества, открыв еще в апокалиптических циклах 1910-х годов («Жатва» и «Сбор винограда»). Тема войны как всемирной катастрофы, трактованная в ключе канонического восприятия, стала идеальным материалом для разрешения проблем, назревших в творчестве художницы.
Эскиз к литографии «Град Обречённый».
Цикл по сути явился одной из последних попыток вернуться к началам неопримитивизма, в чем-то обновить, освежить его опыт. Это, пожалуй, последнее значительное произведение, созданное Наталией Гончаровой в России, «венчает» русский период ее творчества. Напоминание о стилистике народного примитива, в определенной степени возвращение к традиции древнерусского искусства и, одновременно, к уже прочно сложившейся собственной творческой традиции, к иконографии и сюжетике, постоянно присутствовавшим в произведениях 1900—начала 1910-х годов, свидетельствуют о подготовленности, закономерности появления цикла 1914 года.
Эскиз к литографии «Распятие».
Мировая война заставила вновь переосмыслить нравственные и духовные ценности человеческого бытия, все пласты истории и культуры, всмотреться в прошлое, обернуться к истокам, чтобы понять происходящее, вырвать сознание из хаоса войны, острее ощутить место современности в истории и «предназначение» войны в этой современности и в собственной судьбе, увидеть «демона времени»: «Поле сражения: поле вторжении истории в жизнь <…> Годы следовали, коснея в своей череде, как бы по привычке.Не по рассеянности ли? Кто знал их в лицо, да и они, различали ли и они чьи-либо лица?И вот на исходе одного из них, 1914 по счету же <…> в огне и дыме явился он вам, и вам одним лишь, демон времени».

Берег пруда. Фрагмент. 1906 год.
В сознании многих первая мировая война не была неожиданна, она была «войной за «идею», долгожданным рубежом, предвестием конца, смерти эпохи и ожиданием грозно- нового, непознанного нового. В первые дни она еще не предстала «тем бездельем, той скукой, той пошлятиной» и подчас воспринималась как мистический символ, далекий от бытовой и исторической конкретики, как событие скорее умозрительное — тем сильнее и жестче были последующие разочарование и потрясение. Подобное восприятие войны скрыто не только в «свойстве» времени, стремлении к мифу всей культуры XX столетия, но и в самой природе гончаровского творчества, тяготеющего к эпосу, прохристианскому мифу, синтезу и монументальности канонического искусства. Существуют понятия «прозы» и «поэзии» войны, ее «двуликости». Гончарова, как и Филонов, и Хлебников (он «тоже был пророком в русской поэзии, открыв первичную сущность мифологического мышления», выбирает «эпос» войны, находит в истории богатейшую возможность мифотворчества.
И когда земной шар. выгорев.
Станет строже и спросит: «Кто же я?»—
Мы создадим «Слово Полку Игореви»
Или же что-нибудь на него похожее.
Это мироощущение естественно приближено к народному национальному сознанию, в котором война всегда переживается как вселенское событие и в то же время как глубоко личное, индивидуальное потрясение.
Гончарова последовательно избегает «прозы», «бытовизма» «повседневной» войны,
войны как «вражды» в привычном, конкретном смысле, видит ее через призму глобальных проблем бытия — как неизменную категорию, как напоминание о Судном дне.
Подобное переживание войны мы встречаем в некоторых русских рукописях — например, в миниатюрах к «Задонщине» появляются изобразительные цитаты из Апокалипсиса, в старейшем лубочном Апокалипсисе Василия Кореня, напротив, злободневные для того времени детали — антихристово войско наряжено в одежды тогдашних врагов Руси .
Десятилетие между двух русских революций—1906—1916 годы — захлестнуто «потоком предчувствий» (А.Блок), это время поиска и новаторства, выбора и обретения традиции, обращения к началам. Апокалиптичность мышления была одним из характерных черт времени — ее подмечали Д.Мережковский, В.Соловьев, Е.Трубецкой и другие. Издаются все новые толкования Апокалипсиса; иконографические мотивы, сюжеты, даже стилистика, слог Апокалипсиса проникают во многие художественные произведения. Особенно пронизано этим искусство Василия Кандинского, который беспрестанно варьирует тему апокалиптического всадника, войны— как борьбы с косностью, материей, старыми формами. Он одним из первых проводит параллель между художником-творцом и мифологическим всадником, побеждающим дракона. В 1913 году Кандинский создает свою «Импровизацию № 30», которую многие вскоре восприняли как пророчество о войне. Сам же художник писал, что предчувствовал не эту войну: «Я знал, что чудовищная битва назревает в духовной сфере и это заставило меня написать ее» («Импровизацию».— Н.Г.)и.
Цикл Наталии Гончаровой не теряет своей историчности, несмотря на то что художница дает обобщенный образ воинства, города — оставляя нам свободу предполагать, догадываться, узнавать или не узнавать именно эту войну, именно русское воинство, именно современный — русский ли, немецкий, французский — город. Конкретные узнаваемые детали — военная форма, трубы фабрик, аэропланы—-теряются и приобретают в общем мифологическом контексте цикла новый, вневременной смысл. Подобным смыслом наделены поезда, пароходы, аэропланы в картинах Руссо и Пиросмани, автомобили на русских пряничных досках начала XX века. Органично вошедшие в структуру, иконографию народного примитива, они «оживают» в иной реальности, естественно вплетаясь в традиционную метафизическую картину мира. Это создает трепетную, живую ткань текста — особенное, острое чувство истории позволяет через гротеск, неожиданную метафорику соединить пласты истории человеческой и божественной, представить некое действо, универсальный миф, вобравший в себя все, уничтоживший границы времени и пространства «.
Асинхронность сознания была типической чертой эстетических и философских теорий начала XX века — познание начал, «оживление» мертвых поколений у Федорова, надвременная реальность Успенского, постижение мистических законов времени у Хлебникова… В искусстве и литературе развитие этого принципа в начале — в конце XIX века вылилось в эклектическое, «книжное» освоение через стилизацию, затем перешло в проблематику символизма и поднялось на новую ступень— «вживания» в культуру прошедших эпох. Неопримитивисты продолжили эту линию» которая привела к углубленной актуализации культурной памяти, ретроспективизму в самом широком плане, архаизации языка, свободному выбору традиции — «футуристическое движение только и может быть рассматриваемо как вневременное движение» .
В восприятии Гончаровой время — не аллегория, но самостоятельный символ, одно из связующих цикла, который построен на «признании рока во времени» Это позволяет связать в одну структуру ожившую геральдику русского герба, древние символы Британии и Франции, апокалиптические образы— Дева на Звере и Конь Блед,— время которых еще не настало, исторические образы героев прошлого—Пересвета и Осляби, Александра Невского, с деталями, принадлежащими «сиюминутному» настоящему, которое в цикле уже трактовано как прошедшее, претворенное в вечность. На столкновении эффектов последовательности и единовременности построена композиция цикла, где обыгрывается свойственная восточной традиции древнейшая форма изображения войны как «пути» с ее глубокой символикой — через испытания к очищению и новой жизни. Этому вторит и мотив «всадника» — св. Георгий, Пересвет и Ослябя, Архистратиг Михаил, четвертый апокалиптический всадник — рефреном проходящий у Гончаровой.
Цикл начинается, » как средневековая мистерия или площадное действо, с пролога — «парада», представления действующих лиц. Первый лист—св. Георгий — как бы своеобразный эпиграф, настраивающий зрителя на определенный лад. Его тема—тема вечной борьбы и вечной победы воплощенного света над силами тьмы, добра над злом, христианского над антихристовым — варьируется в следующем листе. «Белый орел» (название листа) открывает представление, за ним следуют Британский Лев и Галльский Петух, им противостоит образ воплощенного зла — Девы на Звере, апокалиптической блудницы. Выразительна печаль на ее челе, восточная геральдика позы, придающая бесспорное сходство с прекрасным языческим божеством— Вилой, Венерой, Астартой… В образах блудницы и зверей-царств Гончарова достигла наибольшей целостности, многозначности символа.наделенного собственной реальностью.
Путь продолжают Пересвет и Ослябя, святые защитники русской земли. Их движение подхватывает стремительный Архистратиг Михаил, явленный из языков пламени, трубящий, сзывающий на Страшный Суд,— кульминационный образ, представший аллегорией войны. Затем разворачивается сюжет, само действо: следуя призыву Архистратига, собирается христолюбивое воинство, благоговейно застывает «конелюд» перед святым видением… Сплелись в небе ангельски
сплелись земные и небесные силы… Но вот уже гибнет Град обреченный — новая метаморфоза зла, еще один лик Вавилонской блудницы, Стихийный, враждебный человеку, страшный своей пустотой. А за пустотой следует пустота, лишь Ангел тьмы собирает свою жатву—бесстрастный, безликий, влекомый конем, созданный небытием и погруженный в небытие — «и се Конь Блед, и сидящий на нем — имя ему Смерть: и ад идяще вслед его…». Над Братской могилой «часто вороне играют <…> лежат трупы христианские аки сенные стоги». В первом варианте к листу «Братская могила» Гончарова в центре листа помещает Распятие, акцентируя тему страдания, жертвенности. Но уже во втором варианте отказывается от нее, находит иную иконографию—Христа в образе Ангела со скорбно скрещенными на груди руками. В окончательном варианте Гончарова возвращается к иконографии Ангела в «Жатве», но несколько изменяет ее
смысл, обращаясь к теме всепрощения, воскрешения; Ангел будто творит из тьмы — всполохов лиц, ладоней. «Писала ли хоть раз Гончарова смерть? Если да, то либо покой спящего, либо радость воскресающего <…> Гончарова вся есть живое утверждение жизни, не только здесь, а жизни навек. Живое опровержение смерти».
Последний лист—св. Александр Невский— отличается величавой статикой, даже некоторой тяжеловатостью, нарочитой топорностью деревянной скульптуры, русских пряничных форм. Цикл завершен подчеркнуто статичной, застылой композицией. Найдена почти геральдическая — ритмически строго выверенная общая структура цикла. Ее символика предполагает как бы несколько аспектов, ступеней восприятия: в соответствии с этим в композиции, как и в иконографическом строе, можно выделить определенные «круги», открывающиеся зрителю. Ощущение некоего мистического ритуального действия доминирует в цикле и поддерживается обоим динамическим развитием — в построении многих композиций, в профильной развертке изображения (движение слева направо «читается» как текст). В листе «Александр Невский» это развитие завершается и возвращается к началу, что дает эффект почти абсолютной кругообразной замкнутости. Это воплощается и сюжетно — образ св. Александра Невского как бы репродуцирует образ св. Георгия в новой ипостаси и вновь возвращает нас к теме России, к символике двух русских столиц — Москвы и Петербурга»1.
Гончарова широко и оригинально использует законы построения, бытующие в фольклоре и свойственные вообще каноническому искусству. По сути, она прямо обращается к традиции лубочных книжек, строящихся по принципу симметрии, когда первый лист часто «отражает» последний. Но принципа действие, принятого в лубочных книжках, она избегает—мы имеем в виду развитие сюжета, предполагающее зависимость последующего изображения от предыдущего. Ни один лист в цикле непосредственно не продолжает другой, и этому впечатлению способствует законченность и завершенность каждой отдельной композиции. Художница рассчитывает на сотворчество зрителя, его воображение, которое соединяет видения в целую сюжетную канву. В этой связи особенно замечательным кажется полное отсутствие текста, надписей, даже буквенных обозначений в «Мистических образах войны». В народном лубке слияние слова и изображения, изначальное понимание слова как действа, почти пластическое восприятие его творящей силы — определяющая и характерная черта. Футуристические книги развивали эту традицию, но Наталия Гончарова уже в «Пустынниках» вольно или невольно стремится к отрыву изображения, помещая графический образ на отдельный лист, в силу чего тот приобретает относительно самостоятельный характер. Единство окончательно нарушается в иллюстрациях к стихам С. Боброва «Вертоградари над лозами» — происходит отрыв от текста, в книге использован типографский шрифт, листы заметно тяготеют к станковости, увеличивается их размер. Используя художественный язык лубка, Гончарова не следует по пути прямого заимствования, механического повторения форм—она стремится создать собственный канон, соединяя традиционную и авторскую иконографию, обращаясь к устойчивым мотивам, которые варьируются.
Наталия Гончагова во многом придерживается традиции религиозных лубков: их небольшие размеры предполагают непосредственный контакт со зрителем, камерность, интимность. Максимальное заполнение поля листа, выразительность контура, общая декоративность и орнаментальность в какой-то мере снижают излишчий драматизм сюжета— на этом принципе построены отдельные листы Апокалипсиса Кореня, его же использует Гончарова в «Братской могиле».
«Звериные» образы в цикле, напротив, созданы по аналогии знаменитому «Коту Казанскому», наиболее популярному и характерному примеру такого рода лубка. Художница по-своему интерпретирует один из игровых моментов в лубке — «Мир наизнанку», или «мирсконца», как назвали одну из первых книг футуристы. Она прибегает к персонификации не только явлений, но и качеств, «ускользающей» метафорике образов-«оборотней»: лик Девы на Звере неожиданно оборачивается ликом Ангела; ангелы, обрушивающие камни на Град обреченный, удивительно похожи на земных летчиков; смерть в Братской могиле является воскресением из мертвых…
Структура цикла бесспорно типологически сходна с принципами изобразительного языка древнерусской литературы, фольклора. Чисто фольклорный, эпический принцип характеристики героя через атрибут Гончарова трансформирует, буквально воплощая метафоры-символы: смертная чаша у Девы; палицы — символ «оружия Божия», помогающего в борьбе с дьяволом.— у Пересвета и Осляби; книга, труба, весы — как атрибуты Архистратига Михаила; смертная коса, черепа как символы смерти. Весь образный строй пронизан и самостоятельными поэтическими метафорами, «перепевами» — много места уделено символике огня-войны: пламени превращаются и ковыль-трава, и волосы девы… Птицы, кружащие над Братской могилой, затмение Солнца в листе «Конь Блед» — все это устойчивые метафоры, принятые каноном. И здесь же — совершенно новая символика аэроплана, универсального динамизма».
Посредством этих цитат Гончарова возвращает зрителя к определенным ассоциациям и одновременно сохраняет «вечную преемственную связь, которая и создает собственно искусство», обусловливает возможность самых разных толкований и ассоциаций. В этой символике, восприимчивой ко всякой неожиданной трактовке, в ее скрытой сюжетности заложена возможность философского обобщения, синтетического образа мира. В лучших листах авторская субъективность Гончаровой выразилась в полном «перевоплощении» в образ — что так привлекало неопримитивистов в детском и народном творчестве.
В цикле объединяются разные уровни, разные иконографические структуры, разные типы культуры — классический фольклор, «хранящий память древних времен, мифа и эпоса», и примитив, «осваивающий память близкую, позавчерашнюю». В таком подходе присутствует элемент гротеска, интеллектуальной, рациональной по сути стилистической игры, перегруженной семантикой, которая неизбежно приводит к стилизации, оформившейся как прием в позднем неопримитивизме в 1913—1914 годах.
Цикл «Мистические образы войны» — это не только интерпретация событий мировой истории Наталией Гончаровой, но и интерпретация массовой, народной реакции на войну, в какой-то степени изображение изображения—среднего типического взгляда, утвердившего себя в военных лубках, журналах, новеллах, наскоро написанных стихах. Последовательное развитие логики неопримитивизма приводит к обязательному опосредованию современного события через слой памяти, призму эпического, традиционного, все более вытесняя важнейший момент откровенности. Но в результате, с усилением личностного, экспрессивного начала, художник оказывался в некоторой растерянности перед современностью, с которой уже был не в силах войти в прямой непосредственный контакт, во всей полноте увидеть исключительность и самоценность этого настоящего и выразить в своем произведении абсолютно новым, адекватным ему языком.
Но и принцип стилизации Гончарова обыгрывает как прием, своевольно перетолкованный ход лубочного «мира наизнанку». Этот игровой, мягко-ироничный момент обогащает семантику сложившегося в цикле художественного языка, но все же предполагает некоторую пародийность, и даже самопародийность, неприемлемую для примитива. Это заметно в листах «Христолюбивое воинство» и «Видение», где Гончарова обращается к не характерным для ее творчества, скорее «ларионовским», «солдатским» мотивам. Гротесковая выразительность детали подчеркивает фантасмагоричность вторжения «войска» в потусторонний мир, мир видений. В этих листах присутствует элемент лубочной театрализации — намек на кулисы, фон, решенный в виде сценического задника.
В цикле нельзя не заметить определенную «читаемость» —оттенок литературности, свойственный творчеству Гончаровой и Ларионова. Эта тенденция еще более заметна в некоторых эскизах к циклу: первый вариант, по духу близкий рисункам к «Литургии» 1915 года, открыто стилизован под «византийский стиль» — любование линией, ее эстетизация, утонченные прописи ликов, отсутствие ярко выраженных контрастов, динамических диссонансов придают ему излишнюю холодность и хрестоматийность. В эскизах усилена повествовательность. В процессе работы Гончарова решительно отказывается от иллюстративности такого толка, в общем ей не свойственной, идет от нее к метафорике, от буквальности и перенасыщенности аллегорий к символу. Она усиливает экспрессивность приема, техники, убирает всякий оттенок поверхностной эмоциональности, мелодраматических эффектов, сомнительного пафоса, во всем добиваясь «художнической аскезы». Гончарова возвращается от линеарной стилизации к более экспрессивному языку ранней футуристической книги, в котором штрих выступает важным формообразующим элементом. Она предпочитает делать эскизы для литографского карандаша, и тых в ее интерпретации литография предполагает рукотворность, единичность и стремительность рисунка, создает обманчивое впечатле ние эскизности, мгновенности и импровизационности народной росписи. Художница их пользуется литографией как авторской, индивидуальной техникой для изображения нарочито архетипических, внеиндивидуальных образов, ищет в этом выявление новых пластических возможностей. Речь идет уже не о физическом преодолении материала: в «Белом орле», одном из выразительнейших листов цикла, «световой удар» по точности и силе эмоционального воздействия подобен пробелам в древнерусской иконе — он не подчеркивает натуралистическую форму, а дает листу самоценную орнаментальность и выразительность. Напротив, в «Коне Блед» образы всадника и коня художница создает из тьмы, черным на черном, дав зловещий белый контур.
Композиция листов строится на ритме, единица которого—тот же веерный штрих, «всполох». Возникает трепетный, «чуткий» фон, наделенный самостоятельной выразительностью и динамикой. Активные, круговые ритмы доминируют; в драматических сценах ощущение смятенности достигается ритмическим перебивом, в то время как общая взаимоуравновешенность композиции почти не меняется. В стилистике Гончаровой есть нечто от стиля экспрессионистических ксилографий,— хотя ксилография отличается почти физически ощутимым моментом
преодоления материала,— это усиливает особую напряженную выразительность образа. Выявление самоценности материала, технического приема дает возможность перехода к большей абстрагированности изображения. Гончарова уже обращалась к абстракции в 1910-е годы под влиянием теории лучизма), однако в цикле художница не отрывается от предметности. Нельзя забывать, что «Мистическим образам войны», как и «Войне» Розановой прямо предшествовал опыт работы над литографскими футуристическими книжками и открытками, в которых выработались основные черты их индивидуального стиля, особое восприятие и выявление скрытых возможностей печатной графики.