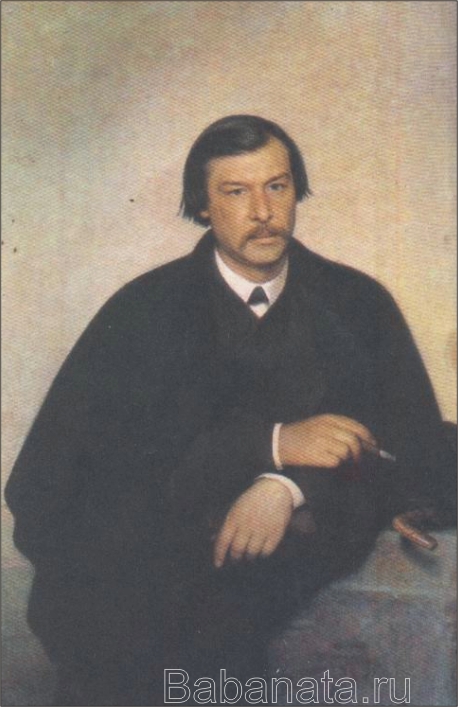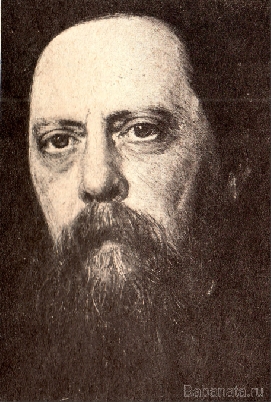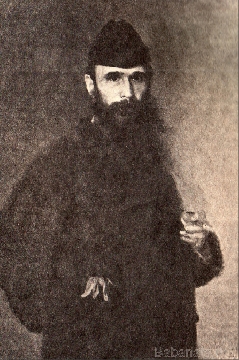Крамской Иван
Крамской Иван
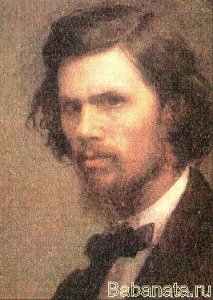 Крамской Иван Николаевич (1837-1887) — великий русский художник.
Крамской Иван Николаевич (1837-1887) — великий русский художник.
Автопортрет. 1867 год. (Фрагмент)
Только чувство общественности даёт силу художнику и удесятеряет его силы, только умственная атмосфера, родная ему, здоровая для него, может поднять личность до пафоса и высокого настроения, и только уверенность, что труд художника и нужен и дорог обществу, помогает созревать экзотическим растениям, называемым картинами.
И. Н. Крамской.
«Художников существует две категории, редко встречающиеся в чистом типе, но все же до некоторой степени различных. Одни — объективные, так сказать, наблюдающие жизненные явления и их воспроизводящие добросовестно, точно; другие — субъективные. Эти последние формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлениями жизни и опыта… Я, вероятно, принадлежу к последним». Иван Николаевич Крамской отнес себя ко второй категории художников — к «субъективным». Мы же берем на себя смелость утверждать, что в русском искусстве второй половины прошлого века немного найдется мастеров, равных ему по объективности, т. е. по глубине осмыслений и верности отражения жизни своего времени. Однако за сто с лишним лет значительно изменилось употребление слов, обозначающих такие, казалось бы, устойчивые понятия, как «объективный» и «субъективный». Так, в приведенном выше высказывании Крамского первое из них мы сегодня решительно заменили бы словом «объективистский», что применительно к художнику «первой категории» может значить пассивный наблюдатель жизненных явлений, бездумно, рабски копирующий «натуру». Крамской же, «формулируя свои симпатии и антипатии под впечатлениями жизни и опыта», создавал искусство «субъективное», т. е. выражающее его личное, всегда заинтересованное, а отсюда — предельно объективное отношение к жизни, главные закономерности и противоречия которой получили столь яркое воплощение во многих его картинах и портретах, не случайно вошедших в число высших достижений русского национального художественного гения. Обратить искусство лицом к жизни, сделать его действенным инструментом ее активного познания — вот задача, которую он считал главной как для самого себя, так и для русской культуры своего времени в целом. В этом Крамской был достойным последователем В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, продолжателем дела А. А. Иванова и П. А. Федотова, единомышленником В. Г. Перова, идейным наставником Ф, А. Васильева и И. Е. Репина.
Возглавив в 1863 году знаменитый «бунт четырнадцати» против рутины и косности, царивших в императорской Академии художеств, а позднее встав во главе сначала Артели художников, а затем и Товарищества передвижников, Крамской был одним из тех деятелей русской демократической культуры второй половины XIX века, чье творчество неизменно служило утверждению самых передовых идей своего времени.
Начало
«Я родился в 1837 году, 27 мая (по ст. ст.— В. Р.), в уездном городке Острогожске, Воронежской губ., в пригородной слободе Новой Сотне, от родителей, приписанных к местному мещанству. 12-ти лет от роду я лишился своего отца, человека очень сурового, сколько помню. Отец мой служил в городской думе, если не ошибаюсь, журналистом (т. е. писарем — В. Р.); дед же мой, по рассказам… был тоже каким-то писарем в Украйне. Дальше генеалогия моя не подымается». В этих словах из автобиографии И. Н. Крамского, написанной им в последние годы жизни, в то время, когда, по его собственному ироническому замечанию, из него «вышло нечто вроде «особы», слышится не только горечь, но и законная гордость человека, поднявшегося из «низов» и вставшего в один ряд с самыми выдающимися людьми своего времени. Далее Крамской писал о том, как всю жизнь он стремился получить образование, а закончить ему удалось всего лишь Острогожское уездное училище, правда, «первым учеником» («…никогда и никому я так не завидовал… как человеку действительно образованному»). Затем вспоминал о городской думе, где он «стал упражняться в каллиграфии», т. е. служить все тем же писарем.
Интерес к искусству пробудился у него очень рано, и первым человеком, оценившим стремления юноши и одобрившим его намерения, был местный фотограф и художник-любитель Михаил Борисович Тулинов, признательность которому Крамской сохранил навсегда.
Портрет М. Б. Тулинова. 1868 год.
Михаил Борисович Тулинов был известен читателям «Русского художественного листка», журнала, возглавляемого В. Ф. Тиммом. Тулинов обучал ретуши юношу Ивана Крамского.
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПОРТРЕТА
Летом 1987 года, незадолго до открытия Всесоюзной юбилейной выставки И. Н. Крамского, посвященной 150-летию со дня рождении художпика, устроители выставки получили неожиданный подарок — «Портрет М. Б. Тулннова», художника и фотографа, друга и земляка Крамского. Портрет был передан в Третьяковскую галерею в дар по завещанию американского гражданина Джона Рота, внучатого племянника М. Б. Тулинова, проживавшего в городе Сан-Франциско.
Долгое время местонахождение портрета было неизвестно исследователям творчества Крамского. Он вошел в каталог посмертной выставки произведений художника 1887 года, но на самой выставке не экспонировался. С тех пор следы его терялись.
Портрет Михаила Борисовича Тулинова — своего рода итог длительных дружеских, почти родственных взаимоотношений. Туликов и Крамской сблизились еще в Острогожске. «…Несмотря на его юные лета, — вспоминал Михаил Борисович в письме к В. В. Стасову, — он во всем проявлял такую энергию, такую любознательность и находчивость, что вы, право, не удивитесь, как я, взрослый мужчина двадцати восьми лет, мог сойтись чуть ни с ребенком». Тулинов, увлекавшийся акварельной живописью, подарил Крамскому первые краски, поощрял его увлечение рисованием, а когда в Острогожск приехал харьковский фотограф Я. П. Данилевский, посоветовал ему взять в качестве ретушера своего молодого друга.
В 1857 году, после трехлетнего перерыва, Тулинов и Крамской встретились вновь в Петербурге. В своих воспоминаниях Тулинов рассказывает, как поразил Крамского Эрмитаж своими картинами, Петербург — своими грандиозными постройками и люди — сдержанностью своей, сухостью. Тулинов поддержал желание Крамского поступить в Академию художеств. А когда осенью 1857 года Крамской был зачислен в класс профессора А. Т. Маркова, то уговорил Тулинова последовать его примеру. «Деятельность Ивана Николаевича и мою хохлацкую натуру расшевелила… и получив в Академии художеств — звание неклассного художника, я… перешел в фотографию… Деньера», — пишет Тулинов. У А. И. Деньера Крамской был главным ретушером, а Тулинов — главным лаборантом.
В 1862 году Крамской работает над академической программой на вторую зо-
Портрет М. Б. Тулннова работы Крамского помещен на вклейке этого номера.
лотую медаль — «Поход Олега на Царь-град». Он хотел писать картину в Киеве, чтобы быть ближе к исторической основе, но Тулинов, к тому времени уже обосновавшийся в Москве, уговорил его приехать к нему. Он помог Крамскому снять мастерскую, собрать материал для работы. «Поставку древних кольчуг, щитов, мечей и всякого оружия, а также приискание южных типов н одеяний я взял на себя. Мы отправились в школу живописи и ваяния, я познакомил Крамского с профессорами Рамазановым н Зарянко. От них получил некоторые нужные предметы, а также дозволение выбирать подходящих натурщиков… Крамской был очень доволен, но радость его еще более увеличилась, когда я через несколько дней достал от антиквара Родионова кольчугу, шишак, щит, копье чуть не современные самому Олегу».
В одном из писем к Туликову Крамской писал: «Ваши требования от жизни совпадают с моими», он был искренне привязан к старшему другу, дорожил его мнением, полагался на жизненный опыт. А в письмах 1862 года он советуется с Михаилом Борисовичем по такому глубоко личному делу, как собственная женитьба. «В письме этом — дело первой важности, именно вот какое: если бы я встретил женщину, которая бы меня полюбила, а я полюбил бы ее… благословили бы вы меня на женитьбу, мой отец, брат и лучший друг?„ если Вы что имеете сказать на это, то говорите, и я Вам привезу ее показать, прежде чем все будет кончено»; «…Я приглашаю Вас, как родного, взглянуть на свершившийся факт с моим сердцем и головою… я еще говорю… это потому, что считаю нужным сказать Вам все, что случится в моей жизни серьезного».
До 1869 года Тулинов — практически единственный корреспондент художника. Именно по письмам к Туликову мы сейчас знаем многие подробности так называемого «бунта 14» — протеста выпускников Академии, отказавшихся от участия в конкурсе на большую золотую медаль, в защиту свободы творчества. Знаем подробности организации н деятельности Санкт-Петербургской артели художников — первого независимого от Академии объединения русских живописцев, старостой которого был избран Крамской. Крамской несколько раз приглашал Тулинова стать полноправным членом Артели, разъяснял ему цели, задачи, возможности объединения: «…если ты почему-нибудь не можешь принять участие в нашем предприятия, то потрудись отвечать немедленно», и позже, в другом письме: «…а быть может, ты найдешь возможным и самому содействовать авторитетом твоим в нашем обществе, как ты на это посмотришь — сообщи».
Для культуры второй половины ХГХ века характерны тесные связи фотографии и живописи. Известно, что некоторые художники подрабатывали рстушерской работой, увлекались фотографированием, пользовались фотографией в качестве натурных этюдов для живописных произведений. С другой сторовы, многие фотографы учились в Академия, имели звание художника, на определенном этапе сочетали занятия живописью н фотографией.
Участие фотографов в художественных выставках не было редкостью. Ранняя фотография развивалась под гипнозом живописи, а живопись впитывала достижения фотографии. Известны факты тесных контактов живописцев и фотографов (так, например, французский фотограф Надар примыкал к объединению импрессионистов). Московский же фотограф Тулинов стал негласным членом Артели, принимал деятельное участие в ее начинаниях, хотя, судя по всему, и воздержался от вступления в нее по всем правилам. Тулинов представлял интересы Артели в Москве. В 1863 году, давая объявление в газетах о работах, которые намеривается выполнять Артель, Крамской просит разрешения Тулинова дать его московский адрес, чтобы заказчики обращались через его посредничество. В свою очередь Тулинов передавал в Артель на ретуширование некоторые заказы своей фотографии.
После успеха работ Артели на академической выставке 1868 года Крамской загорелся идеей приобретения собственной фотографии. Он пишет Тулинову в Москву в ноябре 1868 года: «Добрый мой Михаил Борисович! Артель начинает смекать, что для своего домашнего обихода ей недурно бы завестись фотографическим аппаратом со всеми принадлежностями… нам нужно бывает очень часто снимать копии, манекены, рисунки и так далее: пришли нам объектив с камерой… и вообще все, что нужно… Хорошо, конечно, если бы ты сам нам показал кое-что, если ты здесь будешь, разумеется… стало быть, помоги нам своею опытностью». Из последующих писем видно, что Тулинов просьбу Крамского выполнил. А в 1869 году, когда Артель затеяла литографированное издание «Художественный автограф» (вышло всего два выпуска: в 1869 и 1870 годах), Тулинов занимался осуществлением предварительной подписки в Москве.
В 1865 году И. Н. Крамской перебирается в Москву для работы над росписью храма Христа Спасителя. Первое время он живет в доме друга. В этот период Крамской и Тулинов видятся ежедневно. Когда Михаилу Борисовичу приходится уезжать по делам, Крамской испытывает душевную неприкаянность. «Тулинова нет, — пишет он жене, — …ну, а с другими там невозможно живого слова сказать».
Летом 1867 года Крамской с семьей гостил в имении Тулинова в деревне Вы-ползово Владимирской губернии Пере-славль-Залесского уезда, работая над первоначальными вариантами картин «Христос в пустыне» и «Осмотр старого дома»’. Тогда же, вероятно, и был начат портрет, полученный в дар Третьяковской галереей из США. 15 января 1868 года Крамской пишет своему другу: «Портрет твой стоит у меня в раме, и если ты будешь в Петер-
1 В своих воспоминаниях М. Б. Тулинов свидетельствует: «Эту картину («Христос в пустыне». — 7\ К.) (а также мой портрет) И.Н.Крамской писал в моем имении…» (Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художествен -но-критические статьи. 1837—1887. Издал Алексей Суворин. СПб.. 1888, с. 40). 1867 годом также датируется графический портрет М. Б. Тулинова, который до 1941 года находился в картинной галерее в Острогожске.
бурге, то я кончу фигуру с тебя, а если нет, то весною привезу его оканчивать в Москву». Очевидно, к академической выставке 1868 года портрет Тулинова еще не был закончен. Крамской представил его на выставку 1869 года вместе с портретами княгини Е. А. Васильчиковой (1807, местонахождение неизвестно), графа Д. А. Толстого (1869, местонахождение неизвестно), а также графическими портретами А. И. Морозова (1868, Русский музей), И. И. Шишкина (1869, Русский музей), К. К. Ланца (1869, Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского).’ Портрет Тулинова вместе с другими работами Крамского был помещен среди произведений Санкт-Петербургской Артели художников, выделенных в особый раздел на академической выставке.
Вспомним, что помимо работ Крамского жанр портрета на выставке 1869 года был представлен полотнами таких мастеров, как В. Г. Перов, К. Е. Маковский, В. О. Шервуд. Рецензенты выставки, прежде всего выделяя произведения Перова (он выступил с прекрасными портретами А. А. Борисовского, В. В. Безсоиова и А. Ф. Писемского), не оставляют без внимания и работы Крамского. «Что касается до здешних портретистов (петербургских. — Т. К.), то преимущество перед их толпою принадлежит г. Крамскому, одному из членов петербургской артели художников. Портреты г. Тулинова, графа Д. А. Толстого и в особенности княгини Е. А. Васильчиковой, вышедшие из-Нод кисти этого художника, были бы безукоризненно образцовыми произведениями, если бы автор в таком же совершенстве владел колоритом, в каком обладает рисунком, умом и вкусом в поставке фигур и умением окружать их подходящими аксессуарами. К сожалению, краски не составляют сильной стороны этого художника. Зато там, где дело обходится без красок, он не найдет себе достойного соперника между нашими артистами. В этом можно убедиться, смотря на портреты гг. Ланца, Шишкина и Морозова, исполненные г. Крамским сильно и широко, с помощью лишь карандашного соуса и акварельной кисти; здесь выказываются все лучшие черты его таланта и отсутствует его единственный недостаток», — писал А. И. Сомов, известный историк искусства и художственный критик.
Выставка 1869 года была знаменательна в творческой биографии художника еще и тем, что принесла ему звание академика портретной живописи. «Портрет М. Б. Тулинова» — единственная доступная на сегодняшний день живописная работа из группы произведений, за которые художник-признан академиком. Известно, что позже Крамской отказался от звания профессора, которое ему собирались присудить за картину «Христос в пустыне» Ш!72, ГТГ), но принял звание академика. ЕРписьме к В. В. Стасову 1882 года, осуждая себя за непоследовательность, Крамской вспоминал: «Когда я вышел из Академии со званием художника, я решил никогда другого звания не принимать и не добиваться, и потому все свои вещи я ставил на выставку после того, как Совет присуждал уже зваиие… Но в 1869 г. было решено Советом I присуждать звание во время самой выстав-I ки… по окончании Совета я оказался при-I сужденным ко званию академика! Каюсь — I я оказался ниже своих намерений».
«Портрет М. Б. Туликова» существенно дополняет наши представления о весьма немногочисленных живописных работах Крамского 60-х годов, фиксирует определенный этап развития его индивидуального портретного стиля. Здесь художник впервые избирает форму большого поколенного изображения не в заказном светском портрете, а работая над образом близкого дру.-га, разночинца-интеллигента, пытаясь увязать картинную репрезентацию модели со стремлением проникнуть во внутренний мир личности, отвергая традиционное противо-полагание парадного и камерного портрета — понятий типологически устойчивых в искусстве XVIII — первой половины XIX века.
Крамской старается придать изображению жизненность, естественность, создать впечатление непринужденности пребывания модели перед зрителем. С этой Г целью он вводит «жанровые» элементы, временные акценты, вызывающие воспоминания о формах романтического портрета: I накинутая на плечи крылатка, лежащие I на выступе стены зонтик и фуражка, сига-| ра, с которой падает пепел, — все это соз-: дает облик остановившегося во время прогулки задумавшегося человека; распола-I гает к доверительному, длительному обще-I нию. Но не все элементы характеристики удалось слить в целостный художественный образ. Пластически вылепленное, тща-| тельно выписанное лицо не захвачено временным потоком и производит несколько сонное, застывшее впечатление.
50—60-е годы — период господства в ] русском искусстве натуралистического портрета, который в 60-е сближается по своим качествам с фотографией и часто дублирует ее, соревнуясь в передаче тож-, дества натуры, иллюзионистической рельефности лица. Интересно, что одновременное портретом М. Б. Туликова на выставке де-| монстрировались работы некоего Тюрина, который «для облегчения своего труда» прибегал к особенному фокусу — он наклеивал на холст портреты, снятые при помощи фотографии, иллюминировал их и
приписывал прямо на холст одежду и аксессуары. Уже упомянутого нами А. И. Сомова не шокирует присутствие подобных вещей на академической выставке: «Заказчики, вероятно, остаются довольны такими быстро исполненными произведениями, потому что схваченное фотографиею сход- § ство сохраняется в них всецело и приукра- ? шается свежим и довольно нарядным ко- у лоритом», — писал он. Единственное, что 2 смущает, — это то, что подобным портре- У там «не суждено долголетие, н может слу-читься, что в один прекрасный день наклеенная на холсте бумага отстанет от него и вместо изображенных личностей получатся портреты одних мундиров и платьев».
Черная крылатка скрадывает объем фигуры, создает обобщенный силуэт, по контрасту с которым чрезвычайно рельефно, стереометрично смотрятся лицо и руки, что производит фотографический эффект «фокусированного» изображения. В 60-е годы логика развития искусства фотографии приводит к тому, что начинают восприниматься, а потом и цениться фотографии без ретуши (можно вспомнить, какое отвращение вызывали у самого Крамского сильно ретушированные фотопортреты Данилевского). Складывается своя «правда», своя эстетика фотографии, которая затем, в свою очередь, начинает воздействовать на эстетику живописи, диктуя степень натурного приближения. На светлом фоне стены, очень подробно разработанной в цвете, богатой желтыми, лиловыми, голубыми оттенками, выделяется жесткий силуэт с будто «обрезанными краями». Художнику не удается погрузить фигуру в атмосферу воздуха и света, фон как бы «выталкивает» ее. Этот недостаток станет камнем преткновения живописи Крамского и в дальнейшем — так же апнликативно наложена на зимний пейзаж Невского проспекта «Неизвестная» на знаменитой картине 1883 года.
Но несмотря на отмеченные несовершенства, «Портрет М. Б. Тулинова» подкупает серьезностью отношения к человеку, благородной сдержанностью, строгостью композиционного и колористического решения. Эти качества, обогащенные углубленной психологической характеристикой личности, будут развиты в зрелом творчестве И. Н. Крамского.
Наталья Карпова.
Недолгое время он обучался иконописному ремеслу, и наконец в шестнадцать лет ему «представился случай вырваться из уездного города с одним харьковским фотографом». С ним Крамской «объехал большую половину России в течение трех лет, в качестве ретушера и акварелиста. Это была суровая школа…». Однако эта «суровая школа» принесла ему немалую пользу, закалила его волю, сформировала характер бойца и, что самое главное, не поколебала, а, напротив, укрепила его желание стать художником. И не восторженным юношей, каким, судя по его дневниковым записям, был молодой Иван Крамской, но человеком, твердо знающим, чего он хочет, и ясно видящим средства к достижению поставленных перед собой целей, приехал он в Петербург в 1857 году.
Начало самостоятельного пути будущего художника пришлось на сложное время в жизни России. Только что окончилась Крымская война, приведшая к сокрушительному военному и политическому поражению царского самодержавия, но одновременно пробудившая общий подъем как среди передовых людей, так и в широкой массе народа. Не за горами была отмена крепостного права. Однако прогрессивная Россия не просто жила напряженным ожиданием грядущих перемен, но всячески им способствовала. С «дальнего берега» мощно звучал набат герценского «Колокола», готовили себя к борьбе за подлинное освобождение народа молодые революционеры-разночинцы во главе с Н. Г. Чернышевским, звавшие в своих прокламациях крестьянскую Русь «к топору».
Казалось бы, столь далекая в то время от практической жизни сфера «высокого» искусства не осталась глухой к новым веяниям. Если крепостничество было главным тормозом в развитии всех сторон русской жизни, то в области искусства настоящей цитаделью консерватизма стала созданная еще в середине XVIII столетия императорская Академия художеств. Будучи основным проводником официальных доктрин, устарелых, давно и полностью изживших себя эстетических принципов, она утверждала, что область «прекрасного» не должна иметь ничего общего с реальной действительностью. Однако во второй половине 50-х — начале 60-х годов ее ученики все более определенно чувствовали, что сама жизнь предъявляет к искусству иные требования и что знаменательные слова Н. Г. Чернышевского «прекрасное есть жизнь» — не отвлеченная умозрительная формула философа, но программная установка, обращенная ко всей прогрессивной русской интеллигенции и в первую очередь к молодым деятелям нарождавшегося тогда русского демократического искусства.
В Академию художеств они принесли новые общественные настроения, устанавливали тесные контакты со студентами Университета, Медико-хирургической (ныне Военно-медицинской) академии, в которой, как мы знаем, учились Дмитрий Лопухов и Александр Кирсанов — герои романа Чернышевского «Что делать?», оба — типичные разночинцы, сверстники И. Крамского и его друзей.
Становление личности
Когда в 1857 году Крамской приехал в Петербург, он уже пользовался большой известностью как превосходный ретушер, и это открыло перед ним двери в ателье лучших тогда столичных фотографов И. Ф. Александровского и А. И. Деньера. Однако его не могла удовлетворить карьера преуспевающего ремесленника, Крамской все более упорно думал об Академии художеств. Его рисунок с гипсовой головы Лаокоона получил одобрение Совета Академии, и осенью того же года он стал учеником профессора А. Т. Маркова. Сбылась его заветная мечта, и, справедливости ради, надо сказать, что учился Крамской усердно, старательно трудился над рисунком, культура которого в Академии художеств всегда была очень высока, успешно работал над эскизами на мифологические и исторические сюжеты, получая все положенные награды. И все же подлинного удовлетворения молодой художник не ощущал. Человек вдумчивый, начитанный, не упускавший никакой возможности пополнить свои знания, он все более определенно чувствовал глубокий разлад между старыми, успевшими окончательно омертветь художественными доктринами и реальной жизнью.
Прошло всего лишь несколько месяцев после его поступления в Академию, когда в 1858 году в Петербург из Италии привезли картину А. А. Иванова «Явление Христа народу» («Явление Мессии»), Возвращение художника на родину после почти тридцатилетнего отсутствия, его внезапная смерть, сильное впечатление, которое произвело на современников произведение, ставшее главным делом жизни великого мастера, — все это оказало сильное воздействие на сознание передовой части русской интеллигенции. На появление картины Иванова, а также на безвременную кончину ее создателя Крамской откликнулся статьей «Взгляд на русскую историческую живопись» (1858), в которой проявилась духовная зрелость молодого художника. Статья эта, по сути дела написанная «для себя», увидела свет лишь после смерти Крамского. В ней говорится о том, что со смертью «благородного Иванова», которого он назвал «великим и последним потомком Рафаэля», «окончилось существование исторической религиозной живописи в том смысле, как ее понимал и которою жил Рафаэль». При этом Крамской отметил, что появление Иванова не было простой случайностью, но составляло «рубеж и связь с будущими историческими художниками», которые пойдут по пути, им указанному, «прославляя то же в других образах», угадывая «исторический момент в теперешней жизни людей». «Разве ж, в самом деле, век теперешний не есть достояние истории, — вопрошал Крамской, — разве он будет пробелом в ней, и мы не будем жить в потомстве?» Создавать произведения, в которых современность отражалась бы во всей ее исторической значимости, — вот задача, достойная художника, а если уж он обращается к истории, то, конечно же, для того, чтобы через образы прошлого выразить важнейшие устремления своего времени. И пусть пока еще в самой общей форме Крамской, однако, уже намечал путь, который в ближайшие десятилетия предстояло пройти русскому демократическому искусству, а вместе с ним и ему самому. Так начиналось его становление как художника-мыслителя и одновременно критика и публициста.
В преддверии «бунта»С требованием максимально приблизить национальное искусство к современности в конце 50-х — начале 60-х годов все более настойчиво выступали на страницах прогрессивных русских журналов передовые писатели и критики. «Кто смотрит теперь на мифологические или теоретико-исторические картины?» — писал в некрасовском «Современнике» автор обзора академической выставки 1861 года и продолжал: «Может быть с академической точки зрения они имеют большие достоинства, но мы не любим фраз и риторики ни в литературе, ни в живописи». А несколько выше можно прочитать: «…жанр и пейзаж в настоящее время — любимые роды живописи, они преобладают над всеми другими родами, как повесть — любимый и преобладающий род в современной литературе». «На академических выставках шестидесятых годов, — писал впоследствии И. Е. Репин, — эти картинки были каким-то праздником. Русская публика непосредственно радовалась на них, как дитя. Это было свежо, ново, интересно, забавно и производило необыкновенное оживление. Кто не помнит, например, картин: «Сватовство чиновника к дочери портного» Петрова, «Привал арестантов» Якоби, «Пьяный отец семейства» Корзухина, «Отгадай, кто пришел» Журавлева, «Отправление крестьянского мальчика в училище» Корнеева, «Кредиторы описывают имущество вдовы» Журавлева, «1-е число» Кошелева, «Чаепитие в трактире» и «Склад чая на Нижегородской ярмарке» Попова, «Больное дитя» Максимова, «Офеня с образами» Кошелева, «Славильщики» Саломаткина и много других. Из московской школы: «Первый чин» Перова… От этих небольших картинок веяло… поразительной, реальной правдой и поэзией настоящей русской жизни… Это был первый расцвет национального русского искусства». В связи с картиной В. Перова «Первый чин» Репин упомянул «московскую школу» — знаменитое Училище живописи, ваяния и зодчества, из мастерских которого в эти годы вышли, пожалуй, наиболее значительные бытовые полотна и прежде всего картина В. Перова «Приезд станового на следствие» (1857) и уже отмеченный «Первый чин» (1860). Возникшее еще в 30-е годы, Московское училище к середине XIX века завоевало положение авторитетного художественно-педагогического центра, мало в чем уступавшего петербургской Академии художеств и явно превосходившего ее по степени близости учеников к реальной жизни. В педагогической и творческой практике Училища активно претворялись животворные традиции искусства выдающихся мастеров первой половины прошлого столетия А. Г. Венецианова, В. А. Тропинина, П. А. Федотова, прямого продолжателя которых прогрессивная критика увидела в молодом В. Г. Перове.
В 1860—1861 годах в Академии художеств разразился громкий скандал вокруг картины, которую Перов предполагал писать на первую золотую медаль — высшую академическую награду. Представленный им эскиз на сюжет «Сельский крестный ход на Пасхе» был безоговорочно отвергнут, а другой — «Проповедь на селе», хотя и утвержден, но с целым рядом оговорок и поправок, грубо искажавших авторский замысел. Не менее сильный общественный резонанс вызвал и показ «Крестного хода» на выставке в Петербурге, его запрещение цензурой, а также то, что это «крамольное» полотно включил в свою зарождавшуюся тогда коллекцию видный московский собиратель, основатель знаменитой впоследствии галереи, Павел Михайлович Третьяков. В этих произведениях Перов, выступивший как подлинно «субъективный» (по терминологии Крамского) художник, нарисовал гневную и горькую картину русской жизни того времени. Не случайно же выдающийся художественный критик второй половины прошлого века, глашатай молодого русского демократического искусства Владимир Васильевич Стасов в своих статьях 1861—1862 годов прямо говорил о том, что произведениями новой русской живописи «постепенно и медленно, но неизбежно затопляется старое… судно» Академии художеств. Создавать искусство, которое должно быть «благом народа, потребностью народа», призывал и автор нашумевшей тогда остро полемической статьи «Расшаркивающееся искусство» И. И. Дмитриев. «Говорят, что с будущего года ученикам не станут задавать программ, — писал он. — Пора, господа, давно пора! Ведь у Вас же на здании Академии огромными буквами красуется надпись: «свободным искусствам». Публикация этой статьи была закончена 4 ноября 1863 года, а всего через четыре дня четырнадцать конкурентов на высшую награду — первую золотую медаль подали в Совет Академии прошение о дозволении им «сделать свободный выбор своих сюжетов» вместо задаваемого одного сюжета, обязательного для всех. На следующий день, 9 ноября, «конкуренты» были приглашены на заседание Совета для получения задания. Отказавшись работать над картинами на предложенный им сюжет, молодые художники попросили «уволить» их из Академии с выдачей по приобретенным ими правам аттестатов. Это и был знаменитый «бунт четырнадцати».
«Бунт четырнадцати»
Можно ли рассматривать «бунт четырнадцати» всего лишь как досадный «сбой» во внутренних делах Академии художеств? Вряд ли. Более того, тогдашняя передовая общественность сразу же почувствовала прямую связь этого события художественной жизни с безуспешными попытками реакционных кругов вернуться к старым дореформенным порядкам. К необходимости разрыва с консервативными устоями Академии Крамского привела сама жизнь. Произведения, исполненные им в начале 60-х годов, показывают, насколько сложно, хотя в целом типично, происходило его творческое становление. По заданию Академии он трудился над библейским сюжетом «Молитва Моисея после перехода израильтян через Черное море» (1861, ), а «для себя» в это же время работал над картиной «Смертельно раненный Ленский» (1860). В этом произведении им был создан характерный, запоздало романтический, мелодраматический образ, не имеющий ничего общего с пушкинским Владимиром Ленским. Традиционную же академическую «историческую» картину он построил по всем правилам «школы»: фигура главного героя Моисея помещена в центре полотна и эффектно выделена вспышкой света, а все остальные персонажи лишь подчеркивают ее господствующую роль. Очевидно, однако, что Подобное повторение «задов» академического искусства уже ни в коей мере не могло удовлетворить пытливого, ищущего художника. Не лучше обстояло дело и с работой над сюжетом из русской истории «Поход Олега на Царь-град» (1861, местонахождение неизвестно), в которой в качестве литературного первоисточника ему была указана успевшая уже в его представлении изрядно устареть «История Государства Российского» Н. М. Карамзина. И хотя современники отметили широкий замысел картины, ее богатое содержание и соответствующую ему «полноту красок», она так и осталась незавершенной. Как и любое произведение подобного рода, она не выражала «исторического момента» современности, т. е., попросту говоря, была далека от жизни.
Поиск новых художественных образов был невозможен в отрыве от борьбы за передовые идеалы времени. Отлично это сознавая, Крамской начинает сплачивать вокруг себя единомышленников. Вечерние собрания студентов Академии художеств, происходившие у него дома, вскоре, по словам одного из участников, превратились в «новую русскую академию». Здесь молодые художники не только спорили о путях развития национального искусства, но и много, напряженно работали. В эти годы (и позднее) Крамским была создана целая галерея портретов его друзей, соучеников по Академии, исполненных «соусом», т. е. рисовальным материалом, состоящим из очень мелкого и мягкого черного порошка с незначительной примесью клеящих веществ, который изготовляют в виде палочек в бумажной обертке. И. Н. Крамской стал разводить его водой и затем работать кистью. Так возникла популярная у художников и поныне красивая и прочная техника «мокрого соуса». Портреты Крамского, исполненные им, отличаются строгостью и лаконизмом. Правда, они могут показаться несколько однообразными, но только на первый взгляд. Решенные и скупой «черно-белой» гамме, они четко выражали стремление их создателя не столько обратить основное внимание на внешний облик изображаемого, сколько выразить его характер. Разумеется, все это были люди разные, каждый со своим особым внутренним миром, но очень многое сближало их, было общим. Думается, что эту общность Крамской сознательно подчеркивал в портретах своих друзей и соратников, многие из которых были непосредственными участниками событий 9 ноября 1863 года.
Вот как рассказал о них И. Н. Крамской в письме к своему старому другу М. Б. Тулинову: «Дорогой мой Михаил Борисович! Внимание! 9-го ноября, то есть в прошлую субботу, в Академии случилось следующее обстоятельство: 14 человек из учеников подали просьбу о выдаче им дипломов на звание классных художников. С первого взгляда тут нет ничего удивительного. Люди свободные, вольно-приходящие ученики, могут когда хотят оставить занятия. Но в том-то и дело, что эти 14 не простые ученики, а люди, имеющие писать на первую золотую медаль. Дело вот так было: за месяц до сего времени мы подавали просьбу о дозволении нам свободного выбора сюжетов, но в просьбе нашей нам отказали… и решили дать одич сюжет историкам и сюжет жанристам, которые искони выбирали свои сюжеты. В день конкурса, 9-го ноября, мы являемся в контору и решились взойти все вместе в’ Совет и узнать, что решил Совет. А потому, на вопрос инспектора: кто из нас историки и кто жанристы? мы, чтобы всем вместе войти в конференц-зал, отвечали, что мы все историки. Наконец, зовут перед лицо Совета, для выслушивания задачи. Входим. Ф. Ф. Львов прочел нам сюжет: «Пир в Валгалле» — из скандинавской мифологии, где герои рыцари вечно сражаются, где председательствует бог Один, у него на плечах сидят два ворона, а у ног два волка, и, наконец, там, где-то в небесах, между колоннами месяц, гонимый чудовищем в виде волка, и много другой галиматьи. После этого Бруни встал, подходит к нам для объяснения сюжета, как это всегда водится. Но один из нас, именно Крамской, отделяется и произносит следующее: «Просим позволения перед лицом Совета сказать несколько слов» (молчание, и взоры всех впились в говорящего). «Мы два раза подавали прошение, но Совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу; мы, не считая себя в праве больше настаивать и не смея думать об изменении академических постановлений, просим покорнейше освободить нас от участия в конкурсе и выдать нам дипломы на звание художников». Несколько мгновений — молчание. Наконец Гагарин и Тон издают звуки: «все?». Мы отвечаем: «все», и выходим, а в следующей комнате отдаем прошения производителю дел… И в тот же день Гагарин просил письмом Долгорукова, чтобы в литературе ничего не появлялось без предварительного просмотра его (Гагарина). Одним словом мы поставили в затруднительное положение. Итак, мы отрезали собственное отступление и не хотим воротиться, и пусть будет здорова Академия к своему столетию. Везде мы встречаем сочувствие к нашему поступку, так что один, посланный от литераторов, просил меня сообщить ему слова, сказанные мною в Совете, для напечатания. Но мы пока молчим. И так как крепко держались за руки до сих пор, то, чтобы нам не пропасть, — решились держаться и дальше, чтобы образовать из себя художественную ассоциацию, то есть работать вместе и вместе жить. Прошу тебя сообщить мне свои советы и соображения относительно практического устройства и общих правил, пригодных для нашего общества… И нам кажется теперь это дело возможным. Круг действий наших имеет обнимать: портреты, иконостасы, копии, картины оригинальные, рисунки для изданий и литографий, рисунки на дереве, одним словом, все, относящееся к специальности нашей… Вот программа, далеко еще не ясная, как видишь…». Это письмо, написанное И. Н. Крамским по горячим следам событий, не только раскрывает перипетии борьбы молодых художников против Академии, но и намечает перспективы на будущее, пусть пока не до конца ясные им самим, однако очень смелые, далеко не ограниченные эгоистическими целями только лишь собственного выживания. Мужество этих молодых людей вызывает тем большее к себе уважение, что они пошли на конфликт не только с академическим начальством и профессорами, но и с самой «властью» в лице начальника достопамятного III отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, ее шефа князя В. А. Долгорукова. Как известно, над Крамским и его соратниками был учрежден негласный надзор полиции, под которым они оставались на протяжении многих лет. Напомним нашим читателям имена четырнадцати участников «бунта»: живописцы И. Крамской, Ф. Журавлев, А. Морозов, М. Песков, Б. Вениг, П. Заболотский, Н. Дмитриев, Н. Шустов, А. Литовченко, А. Корзухин, А. Григорьев, К. Лемох, Н. Петров, скульптор В. Крейтан.
Недавние питомцы Академии, которым, к слову сказать, было приказано срочно освободить мастерские, остались без всяких средств к существованию. И все же молодежь одержала крупную победу, значение которой сама она тогда вряд ли могла понять полностью. Это было первое большое завоевание русского демократического реалистического искусства, в судьбах которого год 1863 сыграл очень важную, скажем прямо, историческую роль. Вскоре Крамской вместе со своими единомышленниками приступил к практическому осуществлению своей идеи — созданию «художественной ассоциации» — Артели художников.
Еще с сентября 1863 года Крамской начал преподавать о школе Общества поощрения художеств, или, как ее именовали по месту расположения, в школе «на Бирже», где, ведя занятия по рисунку, он, по существу, помогал желающим готовиться к поступлению в Академию художеств. Не возникало ли здесь противоречия с его собственным к ней отношением? Ответим сразу — нет, ведь в ее лице Крамской «отрицал» вовсе не школу профессионального мастерства, но давно изживший себя официальный бюрократический «институт», упорно препятствовавший сближению русского искусства с жизнью.
Среди его первых учеников оказался талантливый юноша, только что приехавший в Петербург с Украины и так же, как некогда сам Крамской, мечтавший об Академии художеств, Илья Репин. Вот как описывает Илья Ефимович свою первую встречу с Крамским: «Вот и воскресенье, двенадцать часов дня. В классе оживленное волнение, Крамского еще нет. Мы рисуем с головы Милона Кротонского… В классе шумно… Вдруг сделалась полная тишина… И я увидел худощавого человека в черном сюртуке, входившего твердой походкой в класс. Я подумал, что это кто-нибудь другой: Крамского я представлял себе иначе. Вместо прекрасного бледного профиля у этого было худое скуластое лицо и черные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч, а такая трепаная жидкая бородка бывает только у студентов и учителей. — Это кто? -— шепчу я товарищу. — Крамской! Разве не знаете? — удивляется он. Так вот он какой!.. Сейчас посмотрел и на меня; кажется заметил. Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся… Какое серьезное лицо! Но голос приятный, задушевный, говорит с волнением… Но и слушают же его! Даже работу побросали, стоят около, разинув рты; видно, что стараются запомнить каждое слово».
Многие русские художники были одаренными литераторами. Отлично писали и Перов, и сам Крамской. В очерке «Иван Николаевич Крамской (Памяти учителя)» Репин с присущей ему импульсивностью нарисовал очень живой, выразительный литературный портрет. «Крамской на репинских страницах весь в движении, в борьбе, это не застывшая восковая фигура паноптикума, это именно герой увлекательной, богатой эпизодами повести» (К. Чуковский).
Образ, созданный Репиным, почти до мелочей совпадает с «Автопортретом», исполненным Крамским в 1867 году.
В русской живописи конца 50-х — начала 60-х годов прошлого века найдется не так уж много автопортретов, в которых художники давали бы себе такие объективные характеристики, все еще продолжая обыгрывать в них свою «исключительность». Крамской одним из первых распростился с этой уже тогда немного смешной традицией. Его овальный автопортрет прост. Ничто не отвлекает внимания зрителей от главного — лица героя, от строгого, проницательного взгляда его глаз. Воля, ум, сдержанность — вот главные черты личности Крамского, которые хорошо просматриваются в этом произведении. Гордое чувство собственного достоинства проявляется в нем без какой бы то ни было рисовки, позы. Все естественно и просто во внешнем облике художника и по-своему гармонично во внутреннем. Живопись портрета почти монохромна, однако мазок динамичен, стремителен, и это тоже — следствие того, что главное внимание автор уделяет своему внутреннему ‘миру, богатому и сложному. Перед нами — признанный глава петербургской Артели художников.
Санкт-Петербургская Артель художников
В Ленинграде, на фасаде дома номер 2/10, расположенного на углу проспекта Майорова и Адмиралтейского проспекта, установлена мемориальная доска, надпись на которой гласит: «В этом доме с 1866 по 1870 год жил и работал крупный русский художник Иван Николаевич Крамской. Здесь же помещалась организованная им Артель, объединившая передовых художников-реалистов 60-х годов».
Далеко не сразу Артель художников обзавелась помещением в самом центре столицы, в непосредственной близости от Дворцовой площади. Начало было куда более скромным. Вспоминая об организации Артели, Крамской незадолго до смерти писал Стасову: «…тогда необходимо было прежде всего есть, питаться, так как у всех 14 человек было два стула и один трехногий стол. Те, у кого хоть что-нибудь было, сейчас же отпали». Остались наиболее стойкие. «После долгих размышлений, — писал Репин, — они пришли к заключению, что необходимо устроить с разрешения правительства Артель художников — нечто вроде художественной фирмы, мастерской и конторы, принимающей заказы с улицы, с вывеской и утвержденным уставом. Они сняли большую квартиру в Семнадцатой линии Васильевского острова и переехали (большая часть) туда жить вместе. И тут они сразу ожили, повеселели. Общий большой светлый зал, удобные кабинеты каждому, свое хозяйство, которое вела жена Крамского, — все это их ободрило. Жить стало веселее, появились и кое-какие заказы. Общество — это сила».
О том, что в Артели (по крайней мере в первые годы ее существования) сложились ровные, товарищеские отношения, свидетельствует рисунок Крамского «Уголок Артели художников» (1866), в котором изображены задушевно беседующие друзья-художники Н. С. Шустов, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, А. И. Корзухин и Н. В. Дмитриева-Оренбургская (жена художника). Несомненно прав был Репин, говоря, что «общество — это сила» и немалая, особенно когда во главе его стоит энергичный организатор, такой высоко авторитетный во всех вопросах человек, каким был Иван Николаевич, «дока», как уважительно именовали его «артельщики». Да и помощники оказались ему под стать, и первой среди них была его жена Софья Николаевна Крамская — самый дорогой и близкий ему человек.
Со своей будущей женой С. Н. Прохоровой он познакомился еще в 1859 году, женился на ней в 1862 году. Крамской горячо верил в свое будущее счастье, в то, что его избранница сможет стать ему верной подругой, будет делить с ним все тяготы жизни художника. Став его женой, Софья Николаевна оказалась, однако, не только «хозяйкой» Артели, организатором ее бытового уклада. Не случайно в одном из писем Крамского к ней мы читаем: «…ты не только не мешаешь мне быть художником и товарищем моих товарищей, но даже как будто сама стала истинным артельщиком…» Софья Николаевна неоднократно служила моделью своему мужу. И хотя, возможно, было бы чересчур смело называть ее «музой» Крамского, однако идеалом женщины она была для него несомненно. Лучшее тому подтверждение ее портреты 60-х годов, их несколько, и все они — разные. Но есть в них и нечто общее — цельность, независимость и гордость, которые позволяют видеть в ней типичную «новую женщину», и одновременно истинно женская мягкость и поэтичность.
Всеми этими качествами отмечен ее образ в графическом портрете из собрания Третьяковской галереи (1860-е годы). Совсем еще юная женщина, обаятельная, нежная, обладает, однако, сильным волевым характером, о чем говорит и энергичный поворот головы и взгляд — открытый и строгий, а белый воротничок, обрамляющий шею, лишь усиливает подчеркнутую чистоту ее образа.
За чтением. Портрет С. Н. Крамской. 1860-е годы.
В 1863 году Крамской написал картину «За чтением. Портрет С. Н. Крамской». Несомненно, это произведение чем-то напоминает лирические женские портреты самого начала XIX столетия, прежде всего по колориту, построенному на сочетании блеклых оттенков светло-зеленого, сиреневого и т. п. цветов. Существенную роль в портрете играет пейзаж, а также немногочисленные, продуманно отобранные аксессуары (зонтик, шаль), помогающие художнику передать очевидную привлекательность его модели. В 1865 году молодую чету Крамских запечатлел их общий друг «артельщик» Н. А. Кошелев («Крамской с женой»). Он создал лирическую сценку, в которой Софья Николаевна играет на фортепиано, а Иван Николаевич размышляет под аккомпанемент ее музыки.
На протяжении 60-х годов Крамской продолжал создавать графические портреты своих друзей: супругов Дмитриевых-Оренбургских, Н. А. Кошелева, М. Б. И. И. Шишкина и др., все больше и больше усиливая их психологизм.
Девушка с кошкой. 1882 год.
Бурно развивавшаяся тогда фотография временно потеснила художественный графический, а тем более дорогостоящий живописный портрет. Казалось, фотоаппарату было доступно абсолютно все (особенно при участии опытного ретушера), он мог не только зафиксировать внешность позирующего перед ним человека, но выигрышно подчеркнуть необходимые детали костюма, драгоценности, богатую обстановку и т. п. Однако одно ему оказалось не под силу — заглянуть внутрь модели, дать ей определенную социальную и психологическую оценку. Все это было достижимо только в портрете, исполненном художником.
На рубеже 60—70-х годов к решению сложной проблемы психологического портрета приближались многие мастера: Н. Н. Ге, связанный в своем творчестве с традициями русского позднеро-мантического портрета, В. Г. Перов и И. Н. Крамской. Начало эпохи передвижничества прямо совпало с мощным взлетом русского реалистического портрета второй половины XIX столетия. Но все это было еще впереди, а пока Крамской продолжал много работать, а также упорно бороться за то, чтобы сохранить монолитность Артели, что было не так-то просто. Утопический в своей основе социальный эксперимент, чем она, по существу,была, приходил в неизбежное столкновение с дворянско-буржуазным обществом, которое отнюдь не склонно было его поощрять. Снова вспоминается роман «Что делать?», то, что его героям пришлось умериться в своих благих стремлениях объединить людей, сплотить их в борьбе за раскрепощение личности, которая (как показало время) далеко еще не была готова к столь коренному социальному обновлению. По мере того, как упрочивалось личное (в том числе — материальное) положение отдельных участников Артели, ослабевали нити, связывающие их с товарищами по организации. Постепенно ее деятельность начала сводиться почти исключительно к выполнению заказов, дававших заработок ее членам. И. Н. Крамской предпринимал неоднократные попытки возродить былой дух Артели, сохранить и упрочить ее авторитет, но все было тщетно. В ноябре 1870 года он вынужден был выйти из ее состава. Но как «истинный человек конца 50-х и всех 60-х годов» (так называл его В. В. Стасов) Крамской не только не испугался случившегося, но, напротив, внутренне еще больше укрепился в своем стремлении служить делу развития нового русского искусства, под которое в начале следующего десятилетия была подведена прочная «база», более соответствующая духу времени, — было создано Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ).
Крамской и передвижники
Выдающееся значение Товарищества передвижников в истории русского искусства уже давно стало общепризнанным фактом, точно так же, как и важная роль, которую сыграл в нем И. Н. Крамской, один из главных организаторов и идеологов передвижничества как общественно-художественного движения.
Идея создания ТПХВ принадлежала группе видных петербургских и московских художников, непосредственным инициатором этого начинания был известный жанрист Г. Г. Мясоедов. Обратившись с письмом к Артели, они, однако, встретили поддержку лишь у отдельных ее членов, прежде всего у И. Н. Крамского. Так, в 1870 году было создано объединение, способное окончательно освободить русское демократическое искусство от официальной опеки, сплотить передовых художников вокруг организации, основанной на принципе личной- материальной заинтересованности ее членов. Основной же целью Товарищества явилось развитие искусства, демократического по его идейной направленности. Практика передвижных выставок впервые открывала возможность непосредственного общения широкой по тем временам аудитории с искусством, поднимавшим самые насущные вопросы современности. Как известно, на протяжении нескольких десятилетий лучшие работы передвижников приобретал и включал в свое собрание П. М. Третьяков. Первая выставка Товарищества открылась в Петербурге 28 ноября (12 декабря по н. ст.) 1871 года. Следует отметить, что именно Крамскому, человеку твердых принципов и убеждений, Товарищество передвижных художественных выставок в значительной
степени было обязано тем, что оно очень скоро переросло задачи собственно выставочной организации и стало подлинной идейной школой передового русского искусства. Сам же Крамской, организуя Товарищество, руководил его творческой жизнью, нашёл в нем для себя ту «питательную среду», которой он был обязан своими наиболее высокими художественными достижениями. Расцвет деятельности Товарищества передвижников (начало 70-х— 80-е годы) непосредственно совпал с расцветом творчества И. Н. Крамского, причем не только как живописца, но и как критика-публициста, автора целого ряда серьезных статей, в которых он размышлял о судьбах искусства, о его высоком общественном предназначении.
Множество интересных замечаний о великих мастерах прошлых эпох или о современных ему русских и западноевропейских художниках можно также прочитать и в его многочисленных письмах к разным лицам. Самое примечательное в критических суждениях Крамского то, что они высказывались не столько ради «поучения» других, сколько являлись следствием той огромной и постоянной внутренней работы, которая совершалась в нем самом. Думается, что в этом отношении Крамской был исключительно близок к своему гениальному предтече — А. А. Иванову.
В своих эстетических воззрениях он был последовательным сторонником учения великих революционных демократов В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского. Полагая, что только сама жизнь является основой художественного творчества, он писал: «Плохо дело, когда искусство станет законодателем!.. Серьезным интересам народа надо всегда идти впереди менее существенных». Отстаивая его национальный характер, Крамской утверждал, что «искусство и не может быть никаким иным, как национальным. Нигде и никогда другого искусства не было, а если существует так называемое общечеловеческое искусство, то только в силу того, что оно выразилось нацией, стоявшей впереди общечеловеческого развития. И если когда-нибудь в отдаленном будущем России суждено занять такое положение между народами, то и русское искусство, будучи глубоко национальным, станет общечеловеческим». Большое место в размышлениях Крамского занимал вопрос об общественной направленности или иначе тенденциозности искусства, понимаемой им, как выражение активной человеческой и творческой позиции художника, который, «…как гражданин и человек, кроме того, что он художник… непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит. Предполагается, что он любит то, что достойно, и ненавидит то, что того заслуживает. Любовь и ненависть не суть логические категории, а чувства. Ему остается только быть искренним, чтобы быть тенденциозным». По мысли Крамского, тенденциозность искусства находится в прямой зависимости от того, насколько само искусство той или иной эпохи, того или другого народа отражает передовые идеи своего времени. Так, например, он полагал, что искусство античной Греции, пока оно было тенденциозно, «шло в гору; когда же оно перестало руководиться высокими мотивами… оно… быстро выродилось в забаву, роскошное украшение, а затем не замедлило сделаться манерным и умереть. Точь-в-точь то же повторилось во времена Возрождения в Италии и позднее в Нидерландах». Искусство должно играть благородную роль воспитателя человеческой личности, оно «должно обладать силой гармонически настраивать человека», иначе оно «дурно исполняет свою задачу». Вот вкратце основные требования идейно-художественной «программы», которую И. Н. Крамской выдвигал перед русским демократическим искусством второй половины XIX столетия.
Не менее внимательно следил он и за развитием искусства на современном ему Западе, особенно во Франции. Параллельным передвижничеству явлением был тогда «импрессионализм», как называл Крамской художественное течение, которое ныне мы именуем импрессионизмом (от французского слова impression — впечатление). Возникнув как естественная реакция на академическое направление во французском искусстве, а также на мещанскую «салонность», импрессионизм объединял мастеров очень разных, но сходных между собой в главном, в стремлении к выражению поэтически-непосредственного отношения к окружающему миру. Композиция их полотен, особенно пейзажей, была намеренно фрагментарной, что придавало создаваемым ими образам особый динамизм. Светлая красочная гамма, а также энергичный мазок, непосредственно «материализующий» чувство художника, становились средством прямого выражения их просветленно-радостного мироощущения. Все это, однако, вовсе не означало, что тогдашние молодые художники Франции не замечали темных-сторон современной им действительности либо (как об этом иногда пишут) сознательно от нее отгораживались. Напротив, противопоставляя свое искусство унылой прозе повседневной жизни, они тем самым заявляли о ее активном неприятии, не случайно же в течение ряда лет работы импрессионистов практически не допускались на выставки парижского «Салона» либо наталкивались на враждебное отношение со стороны не только публики, но и критики.
К чести молодого русского демократического искусства надо отметить, что его лучшие представители верно поняли и по достоинству оценили перемены, происходившие тогда в культуре Франции. Так, еще в 1874 году, т. е. когда только что состоялась первая выставка импрессионистов (всего через три года после первой передвижной!), И. Е. Репин, находившийся тогда в Париже как «пенсионер» Академии художеств, писал Крамскому: «Французская живопись теперь стоит в своем настоящем цвету, она отбросила все подражательные и академические и всякие наносные кандалы, и теперь она — сама… Царит, наконец, настоящее французское, увлекает оно весь свет блеском, вкусом, легкостью, грацией; и в искусстве, как во всем прочем, французы верны своим особенностям». Правда, здесь же Репин делает существенную оговорку, подчеркивая, что «мы», т.е. русские, «совершенно другой народ, кроме того, в развитии (художественном. — В. Р.) мы находимся в более раннем фазисе».
Именно поэтому, говоря о высочайших достижениях французской живописи, Репин в ответ на замечание Крамского о том, что и русские художники должны наконец «двинуться к свету, к краскам», замечал: «…наша задача — содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы… краски у нас — орудие, они должны выражать наши мысли, колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, ее душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке». Как видно, «истины» русского демократического искусства рождались «в муках» совместных усилий многих мастеров. Следует отметить, что сходные идеи высказывали в эти годы различные деятели русской культуры от Ф. М. Достоевского до М. П. Мусоргского. Свое прямое воплощение получили они и в творчестве И. Н. Крамского.
«Христос в пустыне»
Как известно, на первой передвижной выставке Крамской показал несколько портретов, лучшим из которых, несомненно, был портрет его молодого друга, замечательного пейзажиста Ф. А. Васильева (1871).
Русалки. 1871 год.
Кроме того, он выставил картину «Русалки», написанную по мотивам повести Н. В. Гоголя «Майская ночь». Навеянный воспоминаниями художника о теплой ласковой природе юга, образ лунной ночи, волшебное очарование которой Крамской, по его же собственным словам, стремился передать в этой картине, получил в его трактовке более реалистическое, нежели фантастическое воплощение. Его русалки воспринимались не как сказочные существа, но как обездоленные девушки. В целом же эта поэтическая картина настраивает зрителя на грустно-лирический лад.
Центральным произведением этого периода, а во многом и программным для творчества Крамского в целом стала показанная на второй выставке ТПХВ картина «Христос в пустыне» (1872), замысел которой возник у него давно. Но только в 1872 году художник пришел к окончательному решению, да и то, когда картина уже была на выставке и позднее — в собрании П. М. Третьякова, он все еще продолжал ее дорабатывать. О том, что она явилась вместилищем важнейших для него идей, Крамской говорил: «Под влиянием ряда впечатлений у меня осело очень тяжелое ощущение от жизни. Я вижу ясно, что есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию божию, когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево?.. Мы все знаем, чем обыкновенно кончается подобное колебание. Расширяя дальше мысль, охватывая человечество вообще, я, по собственному опыту, по моему маленькому оригиналу, и только по нему одному, могу догадываться о той страшной драме, какая и разыгрывалась во время исторических кризисов. И вот у меня является страшная потребность рассказать другим то, что я думаю. Но как рассказать? Чем, каким способом я могу быть понят? По свойству натуры, язык иероглифа для меня доступнее всего. И вот я однажды… увидел фигуру, сидящую в глубоком раздумье… Его дума была так серьезна и глубока, что я заставал его постоянно в одном положении… Мне стало ясно, что он занят важным для него вопросом, настолько важным, что к страшной физической усталости он нечувствителен… Кто это был? Я не знаю. По всей вероятности, это была галлюцинация; я в действительности, надо думать, не видел его. Мне показалось, что это всего лучше подходит к тому, что мне хотелось рассказать. Тут мне даже ничего не нужно было придумывать, я только старался скопировать. И когда кончил, то дал ему дерзкое название. Но если бы я мог в то время, когда его наблюдал, написать его, Христос ли это? Не знаю…» О том, что представший перед его мысленным взором образ героя картины был не просто результатом творческого озарения, но плодом долгой и трудной работы, говорят многочисленные подготовительные произведения, наброски композиции, рисунки одежд Христа, поиск наиболее выразительного жеста рук, характерного облика, передающего его сложное внутреннее состояние.
Христос в пустыне. 1872 год.
Крамской изобразил Христа сидящим на холодных серых камнях, пустынная почва мертва, и кажется, что он забрел туда, куда еще никогда не ступала человеческая нога. Но благодаря тому что линия горизонта делит плоскость холста точно пополам, его фигура одновременно и господствует в пространстве картины, четким силуэтом рисуясь на фоне неба, и находится в гармонии с суровым миром, изображенным на полотне. Последнее помогает художнику углубить внутреннюю драму его героя.
В картине нет действия, но зримо показана жизнь духа, работа мысли человека, решающего для себя какой-то очень важный «опрос. Его ноги изранены об острые камни, согбенна фигура, мучительно стиснуты руки. Между тем изможденное лицо Христа не столько передает его страдание, сколько вопреки всему выражает невероятную силу воли, безграничную верность идее, которой он подчинил всю свою жизнь. А над склоненной его головой не замечаемое им течет и течет время. «Он сел так, когда солнце ещё было перед ним, сел усталый, измученный, сначала он проводил глазами солнце, затем не заметил ночи, и на заре уже, когдп солнце должно подняться сзади его, он все продолжал сидеть неподвижно. И нельзя сказать, что бы он вовсе был нечувствителен к ощущениям: нет, он, под влиянием наступившего утреннего холода, инстинктивно прижал локти ближе к телу, и только, впрочем, губы его как бы засохли, слиплись от долгого молчания, и только глаза выдавали внутреннюю работу, хотя ничего не видели…»
Итак, в картине «Христос в пустыне» выражен момент, когда человек решает для себя мучительную проблему, с кем ему идти и кому служить. Проблема эта — далеко не отвлеченная, однако в годы, когда, говоря словами Л. Н. Толстого, также упорно над ней размышлявшего, в России «все переворотилось и только укладывается», ответить на нее однозначно, а тем более выразить на конкретном материале современности было практически невозможно. Отсюда неизбежное обращение художника к образу-«иероглифу», к символу, к «идее».
Поднимая в своей картине большие и вечные общечеловеческие проблемы, ее автор прежде всего обращался к своим современникам, ставя перед ними трудный вопрос о выборе жизненного пути. В то время в России было немало людей, способных принести себя в жертву во имя правды, добра, справедливости, именно тогда готовились к «хождению в народ» молодые революционеры-разночинцы, которые совсем скоро станут героями многих произведений русской демократической живописи. Тесная связь между произведением Крамского и жизнью была очевидна, однако художник хотел создать картину-программу: «И так, это не Христос, то есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей. Какой момент? Переходный. Что за этим следует? Продолжение в следующей книге». Этой «следующей книгой», по замыслу Крамского, должна была стать картина «Хохот» («Радуйся, царь иудейский!», 1877— 1882).
В своих суждениях об искусстве Крамской нередко употреблял выражение «олицетворение абстракта», т. е. идеи «олицетворенной» (воплощенной) в живом, конкретном, при этом, однако, не индивидуальном, как в портрете, но имеющем широкий, общезначимый смысл образе. Убедительным примером «олицетворения абстракта» в его собственном творчестве и стала картина «Христос в пустыне».
Вместе с ней на второй выставке ТПХВ был показан портрет писателя Федора Михайловича Достоевского работы В. Г. Перова. Сейчас можно смело утверждать, что в основе как «абстракта», «олицетворенного» Крамским в легендарном Иисусе Христе, так и созданного Перовым образа великого русского писателя лежала общая для обоих художников «программа» с той лишь разницей, что Крамской обосновал ее теоретически, а Перов «сформулировал» на конкретном жизненном материале. И дело вовсе не только в их удивительной «схожести», причем не столько внешней, сколько психологической. Куда более важны близость внутреннего состояния как вымышленного, так и реального персонажей, их погруженность в себя, их трагические думы о судьбах мира.
Трудно сказать, заметил ли тогда это сходство сам Крамской, однако позднее в статье «О портрете Ф. М. Достоевского» (1881), высоко оценив его превосходные живописные качества, а также то главное, что он в себе заключал — «выражение характера знаменитого писателя и человека», он отметил ряд важных моментов, которые полностью могут быть отнесены к герою его собственной картины: «Он так счастливо (т. е. удачно. — В. Р.) посажен, так смело взято положение головы, так много выражения в глазах и во рту… что остается только радоваться». Одним словом, шедшие, казалось бы, «с прямо противоположных сторон» один — от «абстрлкш», другой — от «натуры», оба художника великолепно «сошлись» и одной точке, которой оказалась глубокая и общая для них правда жизни и правда искусства.
Картина «Хохот», по мысли И. Н. Крамского, должна бымл стать естественным продолжением, «следующей книгой» после «Христа в пустыне», так по крайней мере казалось ее создателю. Еще в 1872 году он писал Ф. А. Васильеву: «Надо написать еще «Христа», непременно надо, то есть не собственно его, а ту толпу, которая хохочет во все горло, всеми силами своих громадных животных легких… Этот хохот вот уже сколько лет меня преследует. Не то тяжело, что тяжело, а то тяжело, что смеются» (выделено мной. — В. Р.). Христос перед толпой, осмеянный, оплеванный, но «он спокоен, как статуя, бледен, как полотно». «Пока мы не всерьез болтаем о добре, о честности, мы со всеми в ладу, попробуйте серьезно проводить христианские идеи в жизнь, посмотрите, какой подымется хохот кругом. Этот хохот всюду меня преследует, куда я ни пойду, всюду я его слышу». «Серьезно проводить христианские идеи» для Крамского вовсе не означало утверждать средствами искусства догматы официального православия, но — ратовать за подлинную нравственность, человечность. Однако совершенно очевидно, что главный герой «Хохота» был выразителем идей не только самого художника, но суммарно, обобщенно в нем отражались помыслы многих честно мыслящих людей того времени, которым, однако, непосредственное столкновение с грубостью, алчностью, всеразрушающим цинизмом наглядно доказывало, что абстрактное добро не в состоянии победить вполне реальное зло.
Уже в самое ближайшее время жизнь показала, что эта проблема не могла быть решена не только на отвлеченном материале «евангельской истории», но даже и на значительно более конкретном, взятом непосредственно из современной жизни. Ведь не случайно столь близкими окажутся судьбы двух проповедников добра — главного героя «Хохота» и не просто не понятого, но прямо враждебно встреченного крестьянами революционера-народника в картине И. Е. Репина «Арест пропагандиста», которая создавалась в эти же годы. Что же касается автора картины «Хохот», то и он, и его герой неизбежно должны были потерпеть поражение, именно в силу отвлеченного характера их проповеди. В известном смысле здесь происходила драма, родственная той, что в конце своего пути переживал Иванов, не случайно же Крамскому, особенно в последний период жизни, казалось, что постигшая его творческая неудача (картина «Хохот» так и осталась незавершенной) есть следствие ошибочности его идейной позиции в целом. Конечно, это было глубокое заблуждение, порожденное присущим многим лучшим представителям русской разночинной интеллигенции утопическим максимализмом. Нелегкую задачу, которую он тщетно пытался реализовать в виде цикла картин о Христе, Крамской сумел решить в своих лучших портретах 70— 80-х годов, воплотив в целой галерее образов передовых русских писателей, художников, ученых, деятелей сцены свое представление о людях высокого нравственного облика.
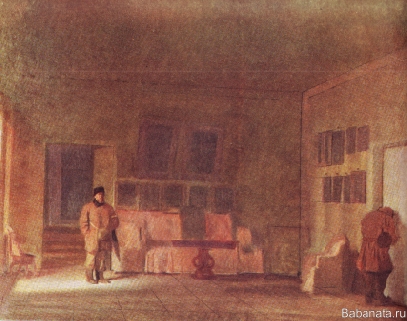 Осмотр старого дома. 1873 год..
Осмотр старого дома. 1873 год..
Наряду с «программными» по своему значению картинами и портретами в 70-х годах у него появлялись произведения совсем иного, лирического и даже чуть элегического, плана. Лучшим из них стала картина «Осмотр старого дома» (1873), о покинутом и разрушающемся «дворянском гнезде», куда после многих лет отсутствия возвратился его хозяин, «старый породистый барин, холостяк», который «приезжает в свое родовое имение после долгого, очень долгого времени и находит усадьбу в развалинах: потолок обрушился в одном месте, везде паутина и плесень, по стенам ряд портретов предков. Ведут его под руки две личности женского пола… За ними — покупатель — толстый купец…» Одним словом, картина была задумана как типичный передвижнический «жанр» 70-х годов и даже должна была заключать в себе некое обличительное начало. Однако философ и поэт в Крамском явно перевесили жанриста, и художник создал в конечном итоге практически одно-фигурную композицию, внешне предельно простую. Пожилой человек медленно движется по анфиладе комнат заброшенного барского дома. Вот он вошел в зал, увешанный потемневшими от времени портретами предков, увидел старинную мебель в серых холщовых чехлах, кажется, что сама атмосфера старого дома окрашена в пыльно-дымчатые тона, время здесь как будто бы остановилось, и даже робкий свет из окон не может рассеять этой мглы минувшего. Старейший сотрудник Третьяковской галереи Н. А. Мудрогель в своих воспоминаниях писал, что «в картине «Осмотр старого дома» Крамской изобразил себя». Это свидетельство современника представляет несомненный интерес, но если это действительно так, Крамской но просто примерял на себя конкретную печально-лирическую ситуацию. В создаваемый им образ он вкладывал более широкий поэтический и глубокий социальный смысл. Картина, как известно, осталась незавершенной. Почему так случилось, сказать трудно. Но ясно одно, Крамской, человек активный, деятельный, сугубо «общественный», не мог позволить себе расслабляться. Видимо, поэтому он сознательно превозмогал в себе «тихоструйного» (как он сам себя иногда называл) лирика. Но, может быть, правильнее будет предположить, что одновременное проявление в его творчестве резко не сходных между собой или же взаимно исключающих друг друга тенденций объясняется реальной сложностью общественно-художественных процессов в России 1870-х годов.
Портреты
«Я портретов, в сущности, никогда не любил и если делал сносно, то только потому, что любил и люблю человеческую физиономию… Я сделался портретистом по необходимости», — писал Крамской. Очевидно, однако, что только лишь «необходимость», в частности, постоянный поиск заработка сами по себе не могли сделать его выдающимся мастером портрета. Острейшая потребность доказать, что «человеческая личность есть высшая красота в мире, доступная нашим чувствам» (Н. Г. Чернышевский), пробудила в нем пристальное внимание и живой интерес к «человеческой физиономии». Вот почему портреты, созданные в эпоху, отмеченную, как указывал В. И. Ленин, «общим подъемом чувства личности, вытеснением из общества помещичьего класса разночинцами, горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности», несомненно, явились самым значительным вкладом в русское искусство 60—80-х годов XIX века.
Вторую половину прошлого столетия с полным правом можно считать своеобразной «эпохой Возрождения» русской портретной живописи, уже познавшей свое великое прошлое в XVIII столетии, не случайно называемом «веком портрета». В начале XIX века жили и творили выдающиеся портретисты-романтики О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов. Творчество двух последних непосредственно предшествовало исканиям мастеров 60—80-х годов. От скромной простоты и поэтической естественности образов, созданных В. А. Тропининым, во многом исходили московские портретисты следующего поколения во главе с В. Г. Перовым, причем здесь имело место определенное (хотя и не прямое) продолжение сложившихся традиций. Брюлловская же «линия» портрета также нашла свое последовательное развитие в творчестве более поздних мастеров. Яркий пример тому — углубленно психологические портреты работы Н. Н. Ге. В эти же годы , начали выдвигаться крупные портретисты нового поколения, прежде всего И. Н. Крамской и В. Г. Перов, а позднее и более молодые — Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковский и, конечно же, И. Е. Репин. Важным фактором, стимулирующим творчество наших художников, была неутомимая деятельность П. М. Третьякова, усиленно приобретавшего, а еще чаще заказывавшего им портреты не только выдающихся современников, но и прогрессивных деятелей русской культуры предшествующего времени. «Портреты, находящиеся у вас теперь, —- писал ему в 1881 году И. Е. Репин, -— … представляют лиц дорогих нации, ее лучшйх сынов, принесших положительную пользу своей бескорыстной деятельностью, на пользу и процветание родной земли, веривших в ее лучшее будущее и боровшихся за эту идею…» Ивану Николаевичу Крамскому довелось быть одним из зачинателей создания этой своеобразной галереи портретов. В числе первых обязательно должны быть названы исполненные им в 1873 году два портрета Л. Н. Толстого. Важно подчеркнуть, что это самые ранние изображения Толстого в русском искусстве, положившие начало целой серии живописных, графических, скульптурных портретов гениального писателя, создателями которой наряду с Крамским стали Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров, Л. О. Пастернак, П.П. Трубецкой,
, А. С. Голубкина.
Портрет Л. Н. Толстого. 1873 год. Фрагмент.
Обстоятельства, приведшие Крамского к работе над портретами Толстого, были следующие. Летом 1873 года художник вместе со своей семьей жил на даче неподалеку от железнодорожной станции Козловка — Засека. Отдыхая после окончания «Христа в пустыне», внутренне настраиваясь на работу над картиной «Хохот», Крамской писал пейзажные этюды, собирал материал для картины «Осмотр старого дома». Тогда же он исполнил один из лучших своих крестьянских портретов — «Деревенский староста» («Мельник», 1873). В это же время в Крыму доживал последние дни «гениальный мальчик», как называл его Крамской, молодой, ярко одаренный пейзажист Ф. А. Васильев. Всеми силами желая помочь погибавшему от чахотки художнику, талант которого он ценил необычайно высоко, Крамской обращался за содействием к разным лицам и в том числе к Третьякову. Выступая перед Третьяковым поручителем за своего молодого друга, Крамской в одном из писем к нему писал: «Не знаю, что я Вам приготовлю в уплату этого долга, но употреблю все старания, чтобы написать портрет графа Толстого, который оказывается моим соседом — в пяти верстах от нас его имение, в селе Ясная Поляна».
Иметь в своем собрании портрет автора высоко ценимого им романа «Война и мир» было заветным желанием Третьякова, однако уговорить Льва Николаевича позировать оказалось делом далеко не простым. В конце концов художник и писатель согласились на том, что будут исполнены два портрета — один для П. М. Третьякова, другой для яснополянского дома, причем право выбора оставалось за Толстыми. Осознавая сложность положения, в котором он оказался, а также учитывая то, что Третьяков принципиально не включал в свое собрание авторские повторения, Крамской, хотя и работал над обоими полотнами параллельно, старался избежать их абсолютной идентичности. В портрете, на котором остановила свой выбор семья писателя, его образ получил более интимную трактовку. Л. Н. Толстой изображен погруженным в себя, в то время, как в портрете, оказавшемся в собрании Третьякова, он обращен на зрителя, и это — не частное различие, а принципиально иная художественно-образная установка. Забегая вперед, скажем, что образ Толстого, созданный в портрете из собрания Третьяковской галереи, оказался емче, содержательнее, а ведь внешне портрет очень прост, так по крайней мере кажется на первый взгляд. Фон — нейтральный, расположение фигуры в пространстве практически не играет никакой роли, точно так же, как и руки, нарисованные весьма общо. Что же касается колорита, то художник, судя по
всему, намеренно избегал сильной, выразительной живописности. Подобная сдержанность пластического решения, видимо, была необходима ему для того, чтобы основной упор пришелся на главное — на лицо сорокапятилетнего Толстого. Простое, открытое, обрамленное по-мужичьи подстриженными волосами и окладистой бородой, оно было для художника интереснейшим объектом для наблюдения, изучения, причем отнюдь не только со стороны своеобразия внешнего облика модели. Ведь главное (и, наверное, самое сложное) в этом портрете — глаза, выражающие напряженную работу мысли великого писателя. Толстой Крамского смотрит на нас «непреклонно и строго, даже холодно… не позволяя себе хоть на мгновение забыть о своей задаче наблюдения и анализа. Он становится ученым, а его предмет — человеческая душа», — пишет видный советский искусствовед Д. В. Сарабьянов. Постижение могучего интеллекта Толстого стало основной целью и, безусловно, представляло главную трудность, с которой столкнулся портретист в этой работе. Впрочем, и такие, казалось бы, чисто «внешние» подробности, как будничная одежда писателя («толстовка»), играют отнюдь не второстепенную роль. В «крестьянском» обличии Л. Н. Толстого Крамской вовсе не усматривает двойственности, неизбежно возникающей, когда человек «рядится» в несвойственные ему одежды. Напротив, утверждая гармонию между наружным обликом писателя и содержанием его личности, художник не просто констатировал этот важный факт, но видел в нем ключ к постижению его сложного образа, а потому сознательно подчеркивал суровый аскетизм Толстого, который, в представлении автора портрета, видимо, внутренне роднил его с героем картины «Христос в пустыне». Подобно последнему он также был выражением мыслей Крамского о человеке, подчинившем всего себя чувству долга. Не случайно же о портрете Л. Н. Толстого
Крамской говорил: «…он из моих хороший, то есть как бы это выразиться? … честный». Были у Крамского портреты «не честные»? Можно смело утверждать — нет! Однако и таких «программных», как портрет Л. Н. Толстого, было в конечном счете не так уж много.
Хорошо известно, что у художника и писателя возник обоюдный интерес, во время этих сеансов они внимательно изучали друг друга. И в то время, когда И. Н. Крамской писал портрет Л. Н. Толстого, тот, в свою очередь, «писал» с него «портрет» художника Михайлова, одного из персонажей романа «Анна Каренина», над которым он тогда трудился. Настроенный резко отрицательно против позирования художникам и лишь в виде исключения уступивший просьбе Крамского, Толстой 23 сентября 1873 года, т. е. вскоре после того, как начались сеансы, писал Н. Н. Стахову: «Уже давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня… Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художественной натуре…»
Простой, строгий портрет Л. Н. Толстого достойно занял место в коллекции Третьякова в одном ряду с лучшими портретами русской школы, прежде всего с портретами А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, В. И. Даля кисти Перова.
Крамской и Третьяков были единомышленниками, их роднил общий взгляд на задачи искусства. Высоко ставя Крамского как художника, Третьяков приобрел большинство его лучших произведений. Крамской же, в свою очередь, очень ценя его собирательский талант, «дьявольское чутье», немало способствовал тому, что наиболее значительные работы передвижников попадали в собрание основателя Третьяковской галереи: Как уже говорилось, над портретами, которые
писались по заказу знаменитого московского собирателя, Крамской работал особенно охотно. Так еще в 1871 году им (по фотографии) был исполнен портрет великого украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко.
Портрет П. М. Третьякова. 1876 год.
Однако особенно сильно с П. М. Третьяковым и его семьей художник сблизился зимой 1876 года, когда он трудился над портретами Веры Николаевны, жены Третьякова, и самого Павла Михайловича, в котором видел не купца и промышленника, но прежде всего интеллигента и истинного патриота национальной культуры, твердо верившего, что «русская школа живописи не последней будет». Именно таким изображен он в небольшом портрете 1876 года. Многое в его образном строе определялось его сугубо «домашним» предназначением, большей по сравнению с портретом Л. Н. Толстого «камерностью» художественного решения. И все же верный себе, а’точнее, запросам времени, как он их понимал, Крамской и в этом портрете стремился выразить общественное значение личности портретируемого.
В 1877—1878 годах И. Н. Крамской создал два изображения великого русского поэта-демократа Николая Алексеевича Некрасова, первое из них — портрет, второе — картина «Некрасов в период «Последних песен». Заказ на портрет исходил от Третьякова, однако работа над ним осложнялась тяжелой болезнью поэта. И хотя художнику удавалось писать его лишь урывками, иногда не более десяти — пятнадцати минут в день, 30 марта 1877 года портрет, в котором Н. А. Некрасов изображен со скрещенными на груди руками, был закончен.
Некрасов в период «Последних песен». 1877-1878 год.
О днако подлинным «живописным памятником» великому русскому поэту стала картина «Некрасов в период «Последних песен». И хотя по форме это произведение занимает промежуточное положение между «обстановочным» портретом и бытовой картиной, в ее окончательном решении отбор бытовых деталей был строго подчинен задаче создания образа поэта. Бледный, тяжело больной, одетый во все белое, Некрасов сидит на постели, целиком уйдя в свои мысли. И не столько аксессуары (как-то домашние туфли, лекарства и колокольчик, а также книги и журналы на столике, стоящем у его изголовья), подчёркивающие бытовую достоверность изображаемого, сколько фотографии Н. А. Добролюбова и И. С. Тургенева, а также бюст В. Г. Белинского, великого друга и идейного наставника Некрасова, передают атмосферу напряженной творческой жизни, зримо давая почувствовать, что поэт — бессмертен.
Внимательно всматриваясь в поверхность холста, на котором исполнена картина, нетрудно заметить, что в разных направлениях ее пересекают несколько швов, а изображение головы поэта выполнено на автономном фрагменте, первоначальное положение которого установить также несложно. Видимо, вначале художник изобразил смертельно больного поэта лежащим, но затем, в свете той идеи, которую он стремился в этом произведении воплотить, коренным образом перестроил его композицию. Ведь не случайно же художник и датировал картину не после ее фактического завершения, т. е. — 1878 годом, но 3 марта 1877 года, днем создания умирающим поэтом его последнего стихотворения «Баюшки-баю»: Непобедимое страданье,
Неутолимая тоска…
Влечет, как жертву на закланье,
Недуга черная рука.
…….
Усни страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!..
А спустя месяц экземпляр своей книги «Последние песни» с надписью на титульном листе: «Крамскому на память. Н. Некрасов 3 апр.» поэт подарил создателю картины.
Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина. 1879 год. Фрагмент.
Еще более сложной, растянувшейся на несколько лет, оказалась работа Крамского над портретами выдающегося писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. Их также два, и тот, что ныне хранится в Третьяковской галерее, писался на протяжении 1877— 1879 годов и при этом подвергался бесконечным переделкам. Сообщая Третьякову о том, что портрет этот «вышел действительно очень похож», Крамской, говоря о его художественных особенностях, особо подчеркнул: «Живопись… вышла муругая, и вообразите — с намерением». Колорит портрета и в самом деле получился глухой, сумрачный, однако подобную цель художник, судя по его же собственным словам, поставил перед собой изначально. Вспомним, что и написанный на пять лет ранее портрет Л. Н. Толстого не отличался особой живописностью. Видимо, в обоих случаях Крамской «с намерением» сдерживал пыразительные возможности цвета. В центре внимания художника лицо Щедрина, высокий лоб, скорбно опущенные уголки pтa, а, главное, присущий ему требовательно вопрошающий взгляд. Немалую роль в создании образа писателя играют руки. Сомкнутые, с переплетенными пальцами, они подчеркнуто аристократичны (но не барственны).
В основу портретов Л. Н. Толстого, П. М. Третьякова, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина автор, видевший в них наиболее передовых людей своего времени, духовных вождей нации, положил идею высокой гражданственности, а это неизбежно приводило к определенному «форсированию» в создаваемых художником образах тех черт личности, которые ему самому были всего ближе и дороже, что, в свою очередь, становилось причиной некоторой «суженности» их характеристики. Последнее обстоятельство не могло не сказываться на живописном решении этих полотен. И если колорит вообще не был сильной стороной дарования Крамского, художника по преимуществу рационального склада, то нарочитая скупость, подчеркнутый аскетизм цветового строя этих произведений — сознательный художественный прием. Ничто, по мысли Крамского, не должно было отвлекать внимания зрителя от главного — внутреннего, духовного содержания личности портретируемого. В тех же случаях, когда он писал портреты литераторов, художников, не столь мощно аккумулировавших в своем творчестве «духовный заряд» эпохи, он позволял себе быть более свободным, более раскованным в живописно-пластическом решении, а это, в свою очередь, делало образы изображаемых им людей более живыми и непосредственными.
Портрет И. И. Шишкина. 1873 год.
Среди произведений подобного рода первым стал исполненный Крамским в 1873 году портрет Ивана Ивановича Шишкина, который, как и картину «Некрасов в период «Последних песен», следует отнести к разряду портретов-картин уже потому, что в ней соединились в единое гармоничное целое два начала — портретное и пейзажное. При этом созданный в ней образ природы это не просто фон, наиболее естественный при изображении известного мастера пейзажа, но скорее «стихия», в которой он, по словам Крамского, был «и смел и ловок». Величественный и вместе с тем лирический пейзаж (ясное голубое небо, по которому плывут легкие облака, темный силуэт леса, высокие травы у ног Шишкина), видимо, не столько воссоздает вид какой-либо конкретной местности, сколько выражает обобщенное представление о русской природе, характерное в 70-х годах для искусства самого И. И. Шишкина.
Вот почему художник стремился подчеркнуть его нерасторжимую слитность с окружающим миром. Могучая, стройная фигура пейзажиста, его открытое волевое лицо, внешняя простота и одновременно впечатляющее величие его облика, то, как спокойно, по-хозяйски всматривается он в бескрайние дали, — всё это очень точно совпадает с представлением Крамского о Шишкине, как о «верстовом столбе » в развитии русского пейзажа», о «человеке школе». Позднее, в 1880 году им будет создан еще один живописный портрет великого певца русской природы. И опять, вглядываясь в его облик, Крамской поразится его физической мощи, но при этом отметит, что, становясь старше, Шишкин и внутренне делался богаче и сложнее.
В 70-х годах И. Н. Крамским было исполнено немало портретов русских литераторов и художников, большинство из которых писались по заказу П. М. Третьякова. Так были созданы изображения И. А. Гончарова, Я. П. Полонского, П. И. Мельникова-Печерского, С. Т. Аксакова, Ф. А. Васильева, М. М. Антокольского, М. К. Клодта, И. Е. Репина и многих других.
Портрет Д. В. Григоровича. 1876 год.
Среди этих произведений хочется особо выделить два портрета — писателя Дмитрия Васильевича Григоровича (1876) и художника Александра Дмитриевича Литовченко (1878). В портрете автора некогда популярной повести «Антон-Горемыка» художник зорко подметил,привычную для Григоровича барственность осанки, а во взгляде снисходительность и благодушие, свойственные человеку, не склонному вникать в сложность окружающей его жизни. Подчеркнуто «картинен» жест руки с зажатым между пальцами пенсне в золотой оправе. Если определенная доля иронии в отношении художника к модели очевидна даже для нас, то насколько заметнее она была для современников. «Это не портрет, а просто сцена, драма!.. Так вот перед тобой и сидит Григорович со всем своим враньем, фельетонством французским, хвастовством и смехотворством— писал Крамскому В. В. Стасов. Правда, через несколько лет в письме к известному издателю А. С. Суворину Крамской, стремясь отвести от себя обвинение в тенденциозности, писал, что у него не было намерения «сделать что-нибудь смешное, кроме совершенно естественного увлечения видимой характерной формой, без подчеркивания». Так ли это было на самом деЛе? Сказать трудно, однако ясно одно, сегодня в портрете Д. В. Григоровича нас привлекает именно увлечение художника «видимой характерной формой», ставшее важным залогом создания удивительно живого и яркого человеческого образа.
Портрет А. Д. Литовченко. 1878 год.
В еще большей степени это может быть отнесено к портрету А. Д. Литовченко, написанному на большом удлиненного формата полотне. Одетый в плотное темно-коричневое пальто, он изображен на светлом серо-зеленоватом фоне. Слегка «размыв» очерчивающий фигуру гибкий подвижный контур, Крамской тем самым подчеркнул естественную непринужденность своей модели. Очень выразительна поза Литовченко, его правая рука свободным движением заложена за спину, красив привычно изящный жест левой руки с сигарой, причем художник намеренно не стал прорисовывать пальцы, но лишь наметил их несколькими точными, динамичными мазками. То, что Крамской как будто бы случайно «смазал» край обрамляющего ее рукава, сделал его заведомо нечетким, убедительно передает естественную мгновенность жеста, что, в свою очередь, точно соответствует живому, изменчивому выражению лица портретируемого, обрамленного пышной бородой. О рисунке рта, о движении губ можно лишь догадываться, но его черные, как уголь
глаза смотрят так пронзительно остро, в его взгляде так очевидно выражена вся непосредственность его натуры, что образ Литовченко и в самом деле воспринимается «как живой». С поразительной точностью использует художник скупые, но крайне выразительные детали: это и конической формы шапочка, очертание которой великолепно завершает силуэт фигуры в целом, и светло-желтые перчатки, артистически небрежно выглядывающие из кармана пальто. Портрет А. Д. Литовченко несомненно одна из самых больших творческих удач Крамского. Его образ получился живым и ярко индивидуальным во многом благодаря высоким живописным достоинствам этого произведения, «по огню, страстности и жизненности быстрого исполнения, похожего на экспромт» (В. Стасов). Крамской уже не столько «рисует» кистью, как это зачастую было во многих его портретах, сколько именно пишет, широко, темпераментно, строит пласическую форму цветом, предвосхищая лучшие портретные полотна И. Е. Репина. Не случайно же М. П. Мусоргский был поражен его мощной экспрессией. «Подойдя к портрету Литовченко, я отскочил… — писал он В. В. Стасову. — Что за чудодейный Крамской! Это не полотно — это жизнь, искусство, мощь, искомое в творчестве!». Такое впечатление у великого композитора возникло вовсе не случайно. Будучи сам творцом образов исключительно динамичных, характеров предельно эмоциональных, он не мог не увидеть в портрете Литовченко качеств, родственных его собственному искусству.
О том, каким к этому времени стал сам И. Н. Крамской, хорошо говорит его «Автопортрет» 1874 года. Это небольшое полотно явно писалось «для себя». Поместив свое погрудное изображение на насыщенном темно-красном фоне, который способствует созданию в портрете атмосферы особой сосредоточенности, художник, всматриваясь в свое собственное лицо, не столько открывает в себе какие-то совсем новые черты личности, сколько показывает, что с годами возросли собранность, упорство, выработанные в нем нелегкой жизнью и постоянным трудом. Об этом красноречивее всего говорит его взгляд, ставший значительно печальнее и глубже, чем он был в автопортрете 1867 года. Если в том овальном автопортрете Крамской, как бы публично заявлял о своей позиции художника-борца, то в данном случае, не отступая от нее ни на шаг, он признается самому себе, каких огромных душевных сил требуют от него эта стойкость и мужество. Два года спустя Н. А. Ярошенко написал портрет И. Н. Крамского, в котором, в свою очередь, показал, что с годами Крамской делался личностью все более значительной и сложной.
«До сих пор г. Крамскому удавались исключительно только мужские портреты, — писая один из обозревателей седьмой передвижной, — но нынешняя выставка показала, что ему одинаково доступен и представляющий несравненно более трудностей женский портрет». Замечание абсолютно верное, особенно если учесть, что до Крамского той разновидности женского портрета, которую он разрабатывал и которая может быть с полным правом названа демократической, в русской живописи практически не существовало. Основную массу произведений составляли парадные либо салонные женские портреты. Как и в мужских портретах, в изображении женщин, в раскрытии их образов Крамской всегда шел от самой модели, хотя в каждой из них его привлекали наряду с ее неповторимыми особенностями такие общие женские качества, как чистота, лиризм, поэтичность. Один из наиболее просветленных и возвышенных образов он создал в портрете Е. М. Иконниковой (1871), к числу значительных достижений Крамского следует отнести и портрет Веры Николаевны Третьяковой, жены основателя галереи, а также портрет Софьи Николаевны Крамской (оба — 1879), ставший подлинной творческой удачей мастера. Не исключено, что именно он дал рецензенту повод говорить об успехах Крамского в области женского портрета.
Вспомним еще раз изображения С. Н. Крамской, созданные им и 60-х годах, графический портрет и картину «За чтением». Многое изменилось с той далекой поры, трудно прожитые годы, следы понесенных утрат наложили на ее лицо свой отпечаток. Оно — все такое же открытое, но теперь уже, пожалуй, не столько гордое, сколько волевое: горько приспущены уголки рта, глаза уже не светятся молодым задором, но в них, «живых», «глядящих» (по определению В. В. Стасова), выражен характер героини портрета, твердый и цельный. Женские образы и позднее будут привлекать к себе внимание Крамского.
Девушка в голубом платке.
Крестьянские образы
Из многочисленных высказываний И. Н. Крамского прямо следует, что он, непосредственно на себе ощущая всю тягостность гнетущей общественной атмосферы, искал возможность противостоять «петербургскому климату», который, как он говорил, «убивает русское искусство и художников», (наменательное признание и явно знакомое. Вспомним, что ещёА. С. Пушкин говорил о том, что для него «вреден Север»,а в 1836 году о К. П. Брюлове, только что вернувшемся из Италии и, казалось бы, буквально купавшемся в волнах славы и шумного успеха, поэт писал, что создатель «Последнего дня Помпей» «хандрит», потому что боится климата и неволи». Очевидно, «климат» официального Петеpбурга и «неволя» продолжали оставаться синонимами и в представлении передовых людей России и во второй половине XIX века. «Тянет меня вон из, Петербурга, — писал Крамской, — тошно мне! Куда же тянет, отчего тошно?.. Где же покой? Да и это бы еще ничего, если бы не лежал богатый и невообразимо громадный материал за пределами городов, там, в глубине болот, лесов и непроходимых дорог. Что за лица, что за фигуры! Да, иному помогают воды Баден-Бадена, другому Париж и Франция, а третьему… сума, да свобода!» Чутко откликаясь на только что зародившееся «хождение в народ», Крамской писал, что «сидя в центре… начинаешь терять нерв широкой вольной жизни; слишком далеко окраины, а народ-то, что может дать! Боже мой, какой громадный родник! Имей только уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть… Тянет меня вон, вот как тянет!» При всей утопичности своих общественных воззрений И. Н. Крамской именно в народе усматривал главную силу жизни, открывал дли себя новый источник творческою воодушевления, и в этом он был неодинок.
Вспомним, что в 70—80-х годах над созданием образов людей из народа рядом с ним трудились многие выдающиеся русские художники-демократы, ставшие авторами популярных крестьянских портретов, а также жанровых произведений. Это и В. Г. Перов, написавший «Фомушку-сыча» и «Странника», и Г. Г. Мясоедов, автор картины «Земство обедает»,
и В. М. Максимов, картина которого «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» — одно из самых значительных произведений, посвященных крестьянской теме. Значительное место заняла она и в творчестве И. Е. Репина. Из его работ, особенно близких к исканиям Крамского, следует вспомнить «Мужичка из робких» и «Мужика с дурным глазом». Забитость и униженность русского крестьянина, зреющий в нем гнев и нарастающая сила внутреннего сопротивления, его огромное душевное богатство — ничто не ускользнуло от внимания наших передовых художников.
Крестьяне — герои произведений И. Н. Крамского — очень многообразны. Это и пасечник, живущий с природой одной жизнью («Пасечник», 1872), и персонаж картины «Созерцатель» (1876), человек типа толстовского Платона Каратаева, философствующий искатель вечной истины. Есть у него и свой «Мужичок из робких» — персонаж поколенного этюда 1872 года «Мужичок с клюкой», забитый, проживший долгий безрадостный век старик-крестьянин. Иной человеческий тип, полного внутреннего достоинства крестьянина, воплощен художником в герое картины «Деревенский староста» («Мельник», 1873), а также в могучем суровом мужике, изображенном на полотне 1874 года «Голова крестьянина» (Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого).
Полесовщик. 1874 год.
И, наконец, в том же 1874 году Крамской создает свое наиболее значительное произведение на крестьянскую тему — картину «Полесовщик», содержание которой сам же раскрывает в письме к П. М. Третьякову: «…мой этюд в простреленной шапке, по замыслу, должен изображать один из тех типов (они есть в русском народе), которые многое из социального и политического строя народной жизни понимают своим умом, и у которых глубоко засело неудовольствие, граничащее с ненавистью. Из таких людей в трудные минуты набирают свои шайки Стеньки Разины, Пугачевы, а в обыкновенное время — они действуют в одиночку, где и как придется, но никогда не мирятся. Тип несимпатичный, я знаю, но знаю также, что таких много, я их видел».
Изображенная крупно, по пояс, развернутая в три четверти фигура крестьянина в армяке и высокой простреленной шапке сильно сдвинута к правому краю холста. Освобождая пространство слева и сверху, художник тем самым как бы дает своему герою возможность распрямиться, развернуться во всей присущей ему могучей силе. Суровое лицо, твердый взгляд его сверкающих глаз, а также внушительных размеров кол, который он держит в правой руке, и впрямь позволяют увидеть в нем одного из тех людей, что некогда шли за легендарными вождями народных «бунтов» Степаном Тимофеевичем Разиным и Емельяном Ивановичем Пугачевым.
Мина Моисеев. 1882 год.
Крестьянскую тему Крамской продолжал разрабатывать и в дальнейшем, в 1882 году им был исполнен «этюд русского мужичка» — портрет Мины Моисеева, а в 1883 году — картина «Крестьянин с уздечкой», в которых на основе одной и той же модели были созданы два едва ли не диаметрально противоположных образа. Мина Моисеев — деревенский мудрец, добродушный и одновременно лукавый старичок «себе на уме», в «Крестьянине с уздечкой» он творческой волей художника перевоплотился в могучего мужика, сжимающего в руках палку с уздечкой, перекинутой через руку, в армяке, накинутом на плечи. Монументальный образ крестьянина поистине полон богатырской мощи, невольно роднящей его с могучими героями русской истории, либо с фольклорными персонажами, которые рождались в эти годы на полотнах таких выдающихся мастеров, как В. И. Суриков и В. М. Васнецов.
Последние годы
Характеризуя 80-е годы прошлого века, В. И. Ленин указывал, что это было время, когда в общественной жизни России «наступила очередь мысли и разума», что «в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создав основы социал-демократического мировоззрения», пришедшего на смену героическим утопиям революционного народничества. Трагичен был исход борьбы героев «Народной воли», гибель участников покушений 1-го марта 1881 года и 1-го марта 1887 года Желябова, Кибальчича, Перовской, А. Ульянова и др. Однако вопреки глухой реакции и жестокому безвременью, вызванным к жизни разгромом революционного движения конца 70—80-х годов, русское демократическое искусство, главные достижения которого были связаны с творчеством более молодых мастеров, переживало беспримерно высокий подъем. В условиях времени, когда «тяжелые серые тучи… плыли над страной», гася «яркие огни надежды» (А. М. Горький), когда реакционные круги предпринимали попытки, если не вернуть Россию к старому дореформенному образу жизни, то хотя бы затормозить происходящие в ней демократические процессы, они сумели не просто выстоять, но создавали произведения, полные веры в человека, его духовные силы, а главное — веры в народ. Что же касается художников, принадлежащих к поколению Крамского, то они теперь уже не всегда улавливали перемены, происходившие вокруг них. Неизбежным следствием подобного отставания, как правило, становился мучительный идейный и творческий кризис.
Заметные изменения происходили в это время и в жизни Товарищества передвижных художественных выставок, в 80-х годах его значение все более определялось творчеством таких титанов русской живописи, как И. Е. Репин и В. И. Суриков. Сам Иван Николаевич продолжал трудиться много, упорно, постоянно движимый стремлением развивать и укреплять русское демократическое искусство. И хотя авторитет Крамского среди передовых деятелей культуры был исключительно высок, в изменившейся общественной ситуации, а обстановке заметно усложнившейся художественной жизни работать ему становилось все труднее. Наглядное тому подтверждение судьба затянувшейся на много лет и в конце концов так и оставшейся незавершенной картины «Хохот», не законченной совсем не потому, что художнику не хватило мастерства (как мы видели, оно, напротив, заметно возросло), но главным образом потому, что идея его грандиозной картины уже не отвечала изменившимся настроениям общества. В 80-х годах проблема положительного героя могла быть решена либо на конкретном материале современности, или же в реалистически трактуемых образах истории, метод же иносказания безвозвратно ушел в прошлое.
Однако за Крамским оставалась область портрета, здесь он был во всеоружии мастерства и богатейшего жизненного опыта. Глубокий психолог, он, как и прежде, проявлял большое внимание к внутреннему миру человека, и интерес к неповторимым особенностям каждой отдельной личности из числа тех, кого ему приходилось портретировать, пожалуй, да же возрос. Примеров тому великое множество. Достаточно просто назвать несколько первоклассных портретов, исполненных Крамским в 80-х годах, таких, как уже упомянутый выше портрет И. И. Шишкина (1880 г.) портрет выдающегося деятеля отечественной медицины С. П. Боткина (1880), портрет артиста В. В. Самойлова, представителя знаменитой русской актерской династии (1881), чтобы понять, что ни о каком снижении мастерства художника не могло быть и речи. Более того, он не просто достойно выступал рядом с более молодыми портретистами, прежде всего с И. Е. Репиным и Н. А. Ярошенко, чьи портретные полотна как бы несут на себе прямой отсвет искусства Крамского, но продолжал по отношению к ним играть роль «учителя» и старшего товарища по творчеству.
Портрет А. С. Суворина. 1881 год.
Наглядным примером того, насколько глубока была проницательность Крамского-психолога, может служить история с портретом А. С. Суворина, редактора и издателя реакционной газеты «Новое время», которую М. Е. Салтыков-Шедрин презрительно именовал либо «Чего изволите», а то и еще более уничижительно — «Помои».
Сразу скажем, что И. Н. Крамской (да и не он один, вспомним, например, А. П. Чехова) питал к Суворину большую личную приязнь. Но вот на Всероссийской выставке 1882 года появляется портрет А. С. Суворина, исполненный им годом раньше. В. В. Стасов со свойственным ему бурным темпераментом восторженно пишет о нем, как о произведении, поразительном «по необычайной жизненности», «по великолепному выражению тысячи мелких, отталкивающих и отрицательных сторон этой натуры. Такие портреты навсегда, как гвоздь, прибивают человека к стене». В представлении критика образ Суворина, созданный Крамским, полностью совпадал с «оригиналом», который, к слову сказать, не преминул обидеться. Очень неприятное для художника недоразумение, возникшее между ним и его моделью, затянулось на несколько лет. Уже в 1885 году в письме к Суворину Крамской продолжал утверждать, что никакой преднамеренной обличительной цели он не преследовал: «По совести я чист, — писал он. — Никакой, даже отдаленной тени, задней мысли у меня не было, когда я работал, и ничего дурного о Вас, как о человеке, у меня не шевелилось никогда ни до этого, ни после… Этих намерений нет, их не было, я их решительно отрицаю».
Но вот к портрету Суворина обращаемся мы, люди конца XX века, для которых все изложенное выше в лучшем случае далекая, полузабытая история, известная разве что из старых книг, а многим это имя сегодня и вовсе ничего не скажет. И все же вряд ли кто из нас, посмотрев на него, усомнится в том, что изображенный на полотне человек фальшив, двуличен. Однако, с другой стороны, можно ли не поверить в искренность слов автора портрета. Видимо, и здесь (как это было в случае с портретом Григоровича) «сработала» присущая Крамскому внутренняя честность, глубокая объективность (которую он сам, как мы помним, называл «субъективностью»), которая не позволила ему приукрасить своего героя ни снаружи, ми тем более изнутри, независимо от личного к нему отношения.
Каков же он, Суворин, в портрете Крамского? Об этом очень хорошо написала в своей монографии о художнике известный исследователь его творчества С. Н. Гольдштейн: «Суворин изображен… у стола, на котором лежат тетради и книги. Кажется, что он только что поднялся для того, чтобы встретить входящего к нему в кабинет. Он стоит слегка сутулясь, как бы окончательно не распрямившись еще после долгого сидения за работой, и производит впечатление человека физически и душевно усталого, утомленного ежедневным напряженным трудом журналиста. Черная бархатная ткань пиджака, в который одет Суворин, ложится мягкими складками, отчего контур фигуры на сером фоне приобретает подчеркнуто мягкие, вялые очертания. Машинальным движением пальцев левой руки он не глядя берет папиросу из портсигара, лежащего на столе. Кажется, что не только движения его, но и мысли непроизвольны и машинальны. Усталым выглядит бледное лицо с высоким лбом, обрамленное длинными зачесанными назад волосами и жидкой бородкой… Очки приспущены на носу и от этого взгляд поверх очков приобретет особую пристальность. Он пронизывает насквозь, заглядывает внутрь человеческой души с неумолимой настойчивостью и буквально пытает собеседника. Сломанная линия бровей подчеркивает настойчивый, язвительный, почти саркастический характер взгляда. О глубоко затаенном, скрытом сарказме говорит и линия рта с несколько выпяченной нижней губой и едва заметная усмешка, мелькающая в выражении глаз. Испытав на себе этот взгляд, ощущаешь, что «грустное и задумчивое выражение», отмеченное в свое время Стасовым, и усталое равнодушие, которое, казалось, пронизывает всю фигуру Суворина, — это всего лишь внешняя оболочка, своеобразная маска, за которой скрывается «второе дно» человека, определяющее подлинную сущность его натуры».
В самом деле, разве же Крамской виноват в том, что все это в Суворине «сидело», он ведь «только высмотрел, усилил». Эти слова, как известно, принадлежлт В. А. Серову. Ими на несколько десятилетий позднее, уже в начале нашего века, он определял одну из главных особенностей своего портретного метода. А сказаны они были потому, что и его не редко обвиняли в «деланьи характеристик», т. е. в нарочитом подчеркивании теневых сторон своих моделей, а он, подобно Крамскому, решительно не принимал этих упреков. Но, видимо, таков удел портретиста, говорящего правду, далеко не всегда приятную, даже помимо собственной воли. «Самая большая сторона таланта Ивана Николаевича, — писал уже после кончины Крамского выдающийся русский художник-педагог, бескомпромиссно строгий и требовательный к себе и к другим П. П. Чистяков, — состояла почти в самом существенном — в выражении лиц. А это не многим дается». А В. В. Стасов утверждал, что «портреты его полны той внутренней правды, того достижения человеческой природы, типа, характера, которые всегда драгоценны истинному художнику, и поэтому он всегда будет обращаться к лучшим созданиям Крамского, Как к одному из истинных источников изучения, как к верному и надежному образцу».
В 1882 году И. Н. Крамской создал портрет Василия Григорьевича Перова, доживавшего тогда последние месяцы своей недолгой жизни. На этом полотне он предстает перед зрителями таким, каким запомнился он своему ученику, выдающемуся русскому и советскому художнику М. В. Нестерову, которого в Перове больше всего привлекали его горькие «думы». «Он был истинным поэтом скорби. Я любил, когда Василий Григорьевич, облокотившись на широкий подоконник мастерской, задумчиво смотрел на улицу с ее суетой… зорким глазом подмечал все яркое, характерное, освещая виденное то насмешливым, то зловещим светом…» На портрете, столь близком к нестеровскому описанию, тяжело больной Перов выглядит значительно старше своих сорока девяти лет. Но ведь и сам Иван Николаевич заметно состарился, устал от напряженной работы, постоянной борьбы, от .непонимания, с которым начинал все чаще сталкиваться в кругу передвижников, особенно среди молодежи. «На вид ему можно было дать уже семьдесят лет, а ему не было еще и пятидесяти. Это был теперь почти совсем седой, приземистый от плотности, болезненный старик. О страстном радикале и помину не было». Так впоследствии о «позднем» Крамском будет писать И. Е. Репин, создавший в 1882 году портрет Ивана Николаевича, во многом схожий с принадлежащим ему же словесным «изображением».
Портрет С. И. Крамской, дочери художника. 1882 год.
Начало 80-х годов в творчестве Крамского было отмечено поисками новых для него направлений. Это касается, в частности, и портретного жанра, художник начал работать над парадными портретами, если, впрочем, можно так называть произведения, ничем не напоминающие парадные холсты XVIII — начала и даже середины XIX века. «Парадность» некоторых его портретов никогда не определялась сословным положением изображаемых лиц, но, как всегда, их человеческим достоинством. Едва ли не лучший’ среди них — большой поколенный портрет С. И. Крамской — дочери художника (1882). Четкий рисунок, сильное и равномерное освещение, подчеркивающее большую пластичность объемов, эффектный наряд героини — все _ это приемы, посредством которых создается форма парадного портрета. Однако внутренне хрупкий, милый образ юной застенчивой девушки, трогательной в своей чистоте, придает всему особый лирический смысл. Впрочем, на этом поприще Крамского нередко поджидали неудачи. Объем заказной работы не сокращался, его портреты продолжали пользоваться большим успехом у заказчиков.
Крамской рисует портрет своей дочери. 1884 год.
Материальные дела его были достаточно хороши, однако стремление как можно надежнее обеспечить семью, ибо он чувствовал, что силы его идут на убыль, а с другой стороны, достигнутое им в эти годы положение значительной «персоны», над которым он сам подшучивал, хотя на деле весьма им дорожил, — все это приводило к тому, что портретные полотна по качеству оказывались весьма неравноценны. Внешняя эффектность, «салонность» подчас подменяли в некоторых из них серьезную содержательность и глубину более ранних его произведений, а на смену строгой тональности колорита иногда приходила недостаточно сгармонированная цветность.
Лунная ночь. 1880 год.
К числу подобных произведений принадлежит картина «Лунная ночь» (1880). Интересные сведения, связанные с историей ее создания, сообщает в своих воспоминаниях Н. А. Мудрогель: «Увидев картину «Лунная ночь», Сергей Михайлович (Третьяков — В Р.) купил ее. На картине в то премя была другая женская фигура. Сергей Михайлович попросил Крамского вместо натурщицы написать его жену. Крамской с неохотой согласился. Так картина «Лунная ночь» превратилась в портрет Елены Андреевны Третьяковой, однако «она не пожелала изменять название картины, так и осталась «Лунная ночь». Художник создал романтический ночной пейзаж. Старый парк с могучими пирамидальными тополями, силуэты которых едва просматриваются в глубокой темноте, пышные заросли цветущих кустов. Однако такие детали, как плавающие у берега пруда и как бы фосфоресцирующие в отблесках лунного света водяные лилии и сидящая в подчеркнуто мечтательной позе задумчивая женщина, фигура которой также излучает холодный свет, — все это придает картине некую нарочитость. Видимо, автор рассчитывал на эффектное впечатление, которое его картина должна была производить на зрителя.
Очевидные просчеты, допущенные художником в этой картине, объясняются, конечно, не только теми обстоятельствами, о которых мы только что говорили, но объективно связаны с происходившим тогда коренным пересмотром эстетического идеала. Менялись требования, которые жизнь предъявляла к искусству, вследствие чего должна была претерпеть существенные изменения и художественная система, в частности живописно-пластические выразительные средства. Обратимся к фактам. В 1883 году в Московском училище живописи, ваяния и зодчества молодой художник, ученик А. К. Саврасова и В. Д. Поленова, К. А. Коровин написал этюд «Хористка», сильно смутивший педагогов училища и непривычностью мотива (в нем изображена молоденькая, ничем не примечательная провинциальная певичка), но еще более смелой новизной живописного языка. Даже Поленов, великолепно передававший в своих пейзажах свето-воздушные эффекты, знакомый с творчеством французских импрессионистов со времени их первых выставок, был поражен этим смелым экспериментом Коровина, опережавшим (как тогда казалось) свое время. Пройдет еще несколько лет, и близкий друг К. Коровина, не по-юношески углубленный и серьезный В. А. Серов, ученик И. Е. Репина и П. П. Чистякова, т. е. художник, принадлежащий к одной с И. Н. Крамским петербургской «школе», напишет свою «Девочку с персиками» (1887), превратив портрет двенадцатилетней дочери знаменитого московского промышленника и мецената С. И. Мамонтова Веры в лучезарный образ юности. Именно в это время в одном из писем Серова появились такие слова: «…в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного, и буду писать только отрадное».
«Отрадное» с неизбежностью должно было прийти на смену «тяжелому». Мы знаем, что в самой жизни и тогда «отрадного» было мало, однако стремление выработать и воплотить средствами искусства некую поэтическую альтернативу непоэтической доиейвительности было объективной потребностью того времени, которую, конечно же, каждый из мастеров конца 19-го — начала 20-го века решал для себя по-своему, прежде всего в процессе творчества, практически, а теоретическое ее осмыслении и, в частности, ответ на вопрос, чем же отличается искусство мастеров 1890—1900-х годов от искусства их предшественников реалистов-демократов 1860—1880-х годов, будет дан позднее.
Именно в потоке поисков нового, в естественном для Крамского, как для всякого крупного художника, стремлении соответствовать изменившимся требованиям времени и появилась картина «Неизвестная» (1883), одно из наиболее популярных его созданий, причем как сама картина, так и ее героиня овеяны легендами. Кто изображен и ней, что хотел сказать художник-демократ, создавая образ светской красавицы?
Что же привлекает нас в этой картине Крамского, в образе его героини? Несомненная красота женщины, красиво исполненные аксессуары: бархат, мех, шёлк и т. д. или же что более существенно важное? Попробуем разбраться. Для начала обратимся к описанию картины, принадлежащему видному советскому искусствоведу Н. Г. Машковцев: «Молодая женщина изображена в коляске на фоне Аничкова дворца, выкрашенного в красный ржавый цвет. Этот цвет смягчён зимним туманом, так же как и контуры архитектуры. С тем большей отчетливостью выступает на первом плане женская фигура. Она одета со всей роскошью моды. Она откинулась на спинку экипажа, обитую темно-желтой кожей. В ее лице есть гордость женщины, сознающей свое обаяние. Ни в одном портрете Крамской не уделял столько внимания аксессуарам — бархату, шелку, меху. Темная перчатка, плотно охватывающая руку, как вторая кожа, тонкая и полупрозрачная, сквозь которую чувствуется живое тело, написана с какой-то особенной теплотой. Кто она, эта пленительная женщина, так и остается неизвестным». И вот на протяжении уже более чем ста лет существует «загадка» «Неизвестной», которую иногда почему-то называют «Незнакомкой». Кстати, подобное произвольное изменение названия картины открыло путь всевозможным домыслам, возникновению массы всяких легенд, к сенсационным «открытиям», которые время от времени проникают на страницы различных газет и журналов. Так, издавна (чуть ли не со времени создания картины) упорно держится мнение, что «Неизвестная» Крамского это — «портрет Анны Карениной», главной героини одноименного романа Л. Н. Толстого. С другой стороны, известно, что во внешний облик своей Анны писатель ввел некоторые черты наружности Марии Александровны Гартунг, старшей дочери А. С. Пушкина. Однако правильнее было бы предположить, что и живописец и литератор, создавая образы в чем-то сходные, вложили в них нечто большее, чем просто портрет конкретной женщины. Видимо, речь может идти о воплощении обоими художниками своего представления об идеале современной им женщины. Иногда говорят, что его «Неизвестная» всем своим видом, а также тем, что одна в экипаже проезжает через самый центр Петербурга, нарушая светские приличия, как бы бросает вызов «обществу».-Разумеется, и в 80-х годах «женский вопрос» продолжал оставаться одним из самых злободневных и острых. Поэтому-то столь очевидная независимость поведения и Анны Карениной, и героини картины «Неизвестная» могла рассматриваться современниками как прямой протест против уродливых общественных устоев. Подобно Толстому, выступая в защиту человеческого достоинства женщины, Крамской поставил перед собой задачу, почти неразрешимую для художников его поколения, — через видимую, «предметную», красоту модели попытаться воплотить свое представление о красоте, как о высокой нравственно-эстетической категории. В годы, когда буржуазно-эстетское начало достаточно громко стало заявлять о себе в русском искусстве, сделать это было очень важно, хотя и чрезвычайно сложно, а переступить через заблуждения своего времени, в которых, возможно, он и сам не отдавал себе отчета, художник так и не смог. Поэтому-то красота превратилась в чисто внешнюю привлекательность, даже красивость, а ведь стремление к красоте (в подлинно высоком значении этого понятия) было у Крамского, несомненно, искренним. Решение этой сложной задачи создания поэтического образа, причем средствами новыми, выпало на долю молодых художников, чей творческий путь в 80-х годах еще только начинался, — К. Коровина, В. Серова, М. Врубеля.
Замысел картины «Неутешное горе» (1884) возник у Крамского несколько ранее, еще в конце 70-х годов, сюжет ее был навеян горестным событием — смертью в детском возрасте двух его младших сыновей, в ней нашли отражение тяжелые переживания и его, и в еще большей мере Софьи Николаевны. Обилие набросков композиции, рисунков скорбной женской фигуры, а также существование нескольких весьма отличных друг от друга вариантов картины говорят о том, что, вкладывая в это произведение много личного, глубоко сокровенного, художник вместе с тем стремился до предела расширить и углубить ее содержание. Скупо и точно отобранные аксессуары вводят нас в атмосферу дома, который посетило большое горе, переданное, однако, очень сдержанно, без каких бы то ни было мелодраматических излишеств, лишь красноватый отблеск света похоронных свечей, мерцающий за портьерой, а также цветы и венки подсказывают его причину.
В основном же обстановка комнаты говорит о прочном достатке интеллигентной петербургской семьи, не чуждой серьезных духовных интересов, о чем свидетельствуют стопка книг на столе, картины в богатых позолоченных рамах на стенах.
В центре внимания художника полный драматизма образ женщины. Уже одна только напряженная выпрямленность ее фигуры, скорбный взгляд ничего не видящих вокруг себя глаз, то, как, с трудом сдерживая рыдания, она поднесла к губам смятый платок, раскрывают всю глубину ее страдания. Психологическая выразительность образа огромна, и досталась она художнику нелегко. «Я искренно сочувствовал материнскому горю, — писал Крамской П. М. Третьякову, — я искал долго чистой формы и остановился, наконец, на этой форме…» «Чистая», строгая форма, достигнутая без ненужной повествовательности и почти неизбежных «театральных» эффектов, позволила ему создать образ человека сильного духом, а монументальный строй произведения помог передать чувства и переживания «частного» человека, как драму личности, которую художник пытается поднять до уровня явления большого общественного звучания, что было так характерно для русской живописи 80-х годов. Не случайно же художник П. О. Ковалевский писал автору «Неутешного горя», что у него «переход от портрета к картине совершился совершенно логично». И все же нельзя не видеть, что в отличие от произведений 70-х годов, в которых чувства героев картин и портретов Крамского были отмечены печатью высокой гражданственности, персонажи его поздних работ живут в более замкнутом мире личных переживаний. Качественные перемены в содержании жизни русского общества приближавшегося конца XIX столетия Крамской, несомненно, чувствовал, однако выразить их полностью уже не смог.
«Совершенно справедливо, что картина моя «Неутешное горе» покупателя не встретит, я это знаю… — писал он. — Но ведь русский художник, пока остается еще на пути к цели, пока он считает, что служение искусству есть его задача… способен еще написать вещь, не рассчитывая на сбыт. Прав ли я или ошибаюсь, но я, в данном случае, хотел только служить искусству. Если картина никому не будет нужна теперь, она не лишняя в школе русской живописи вообще». К счастью, картина «встретила» своего покупателя. Им оказался все тот же П. М. Третьяков, а что касается того, что «она не лишняя в школе русской живописи», то об этом и говорить не приходится. Знаменательно и то, что почти на закате своих дней Крамской, вопреки постигшим его невзгодам, пережитым разочарованиям, «хотел только служить искусству».
Хорошо известны его всегда очень объективные и содержательные суждения о великих мастерах и выдающихся творениях прошедших эпох. Ему, замечательному мастеру портрета, был близок гений Гольбейна, Веласкеса, Рембрандта, однако искреннее преклонение перед их искусством никогда не мешало Крамскому с мотреть на окружающую жизнь пзглядом русского художника второй половины XIX века: «Натура живая открывается для нас с новой точки, нельзя уже смотреть теми глазами, как смотрели эти наивные великаны». Исключительная чуткость Крамского по отношению к важнейшим явлениям современного ему русского искусства всегда делала его суждения подлинным мерилом их художественной значимости. Достаточно вспомнить, например, его реакцию на появление картины «Грачи прилетели». По достоинству оценив показанные на первой выставке передвижников пейзажи А. П. Боголюбова, И. И. Шишкина, М. П. Клодта, он вовсе не случайно выделит полотно А. К. Саврасова. Сказав о том, что «душа есть только в «Грачах», Крамской верно определил главную особенность искусства основоположника русского лирического пейзажа. Столь же внимательно он следил за развитием незаурядного дарования молодого Ф. А. Васильева, в таланте которого он заметил «присутствие пафоса высокого поэта». Не менее объективен он был и в отношении к своим соратникам по портретной живописи, в первую очередь к Н. А. Ярошенко. Одной из лучших его работ — портретом выдающейся русской трагической актрисы П. А. Стрепетовой — он искренне восхищался. С пристальным вниманием следил Крамской за развитием творчества И. Е. Репина — его младшего современника и, в определенном смысле, ученика. Однако наступил момент, когда ему начала изменять прежде такая высокая точность и объективность его суждений и оценок. Так, картину того же И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии» он не просто не понял, но даже резко раскритиковал, хотя сам прекрасно осознавал, что «новое искусство… занимаясь по преимуществу массами… старается о том, чтобы толпа состояла из живых людей, с их разнообразными характерными особенностями». Эти слова были написаны Крамским в 1885 году, т. е. уже после появления репинского «Крестного хода», после того, как Суриков создал свое первое большое историческое полотно «Утро стрелецкой казни».
О том, что в приятии им достижений русской живописи его времени наступил определенный предел, лучше всего свидетельствует его отношение к картине Сурикова «Меншиков в Березове», появившейся на очередной выставке передвижников в 1883 году. «Умный, благородный, справедливый, равно требовательный к себе и другим, Крамской, увидав «Меншикова», как бы растерялся: встретив идущего на выставку Сурикова, остановил его, сказал, что «Меншикова» видел, что картина ему непонятна, — или она гениальна, или он с ней еще недостаточно освоился. Она его восхищает и оскорбляет… своей безграмотностью — «ведь если Ваш Меншиков встанет, то он пробьет головой потолок», — читаем мы в воспоминаниях М. В. Нестерова. Гениальность этой наиболее «шекспировской» «по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим» картины В. И. Сурикова Крамской, несомненно, почувствовал, точно так же как, видимо, не мог не восхищаться «ее дивным тоном, самоцветными, звучными как драгоценный металл красками», однако через свои сомнения переступить уже не сумел.
Во второй половине 80-х годов заметно изменилась атмосфера русской художественной жизни, один за другим умирали многие сверстники и соратники Крамского, на вершине славы находились теперь более молодые Репин и Суриков, следующее поколение мастеров было, что называется, «на подходе». Как уже отмечалось, Крамской становился все более консервативным в своих художественных воззрениях, все теснее сближался с «высшим обществом», менялся даже внешне. М. В. Нестеров, впервые увидевший его в залах Эрмитажа, где .Крамской давал уроки членам царской семьи, вспоминал, как мимо него прошел человек, «непохожий на обычного посетителя ничем — ни лицом, ни повадкой, ни костюмом. В фигуре, лице было что-то властное, значительное, знающее себе цену. Костюм был — фрак. Министр, да и только… И вот, оказывается, этот важный господин, этот министр был И. Н. Крамской, находившейся тогда в зените своей славы».
Последний период жизни был для Крамского особенно мучителен. После «Неутешного горя» ни одной сколько-нибудь значительной картины он уже не создал. Видимо, сам художник все более ясно осознавал угасание своих жизненных и творческих сил. Не случайно еще в t883 году он писал П. М. Третьякову: «…я сознаюсь, что обстоятельства выше моего характера и воли. Я сломлен жизнью и далеко не сделал того, что хотел и что был должен…» Сходные мысли находим мы и в его письмах к художнику П. О. Ковалевскому: «Я давно уже работаю в потьмах. Возле меня уже нет никого, кто бы, как голос совести или труба архангела оповещал человеку: «Куда он идет? По настоящей ли дороге, или заблудился?» «От меня ждать больше нечего, я сам уже от себя перестал ждать». Известно, что в последние месяцы жизни художника обострились его отношения с некоторыми из членов Товарищества передвижных художественных выставок, заподозривших Крамского в том, что он якобы решил пойти на сделку с Академией художеств. К счастью, это недоразумение было быстро улажено.
Однако, даже будучи тяжелобольным, Крамской «работал, работал… Его портретные сеансы продолжались по пяти часов кряду. Этого и вполне здоровый не вынесет. Стонет, вскрикивает от боли и продолжает с увлечением… Но бодро и весело чувствовал он себя в последнее утро. Без умолку вел оживленный разговор с доктором Раухфусом, с которого писал портрет. И за интересной беседой незаметно и виртуозно вылеплялась характерная голова доктора. Но вот замечает доктор, что художник остановил свой взгляд на нем дольше обыкновенного, покачнулся и упал прямо на лежавшую на полу перед ним палитру… Едва Раухфус успел подхватить его — уже тело. …Я не помню сердечнее и трогательнее похорон!.. Мир праху твоему, могучий русский человек, выбившийся из ничтожества и грязи захолустья». Так с глубоким уважением к светлой памяти своего старшего друга писал впоследствии И. Е. Репин.
Смерть, наступившая 24 марта 1887 года, настигла художника за мольбертом, его последнее произведение — неоконченный портрет доктора К. А. Раухфуса — хранится теперь в Ленинграде в Государственном Русском музее.
Ивана Николаевича Крамского не стало, однако с нами осталось практически все, чем он жил, его идеи, его взгляды на искусство, до сих пор не утратившие своего значения. Наконец, с нами главный результат его творческой жизни — картины и портреты, которые служат людям вот уже на протяжении целого столетия.
Судьба наследия
Начиная с 1877 года И. Н. Крамской писал и частями публиковал статью «Судьбы русского искусства», в которой последовательно рассматривал сложный путь его развития на протяжении всего XIX столетия. Подробно анализируя роль Академии художеств, он указывал на необходимость ее коренной реформы (которая была осуществлена лишь в середине 90-х годов). Уже после смерти Крамского состоялся съезд художников (апрель 1894 год), для организации которого он провел большую работу. В том же году был принят новый Устав Академии художести. В качестве профессоров, руководителей творческих мастерских созданного при Академии Высшего художественного училища пришли И. Е. Репин, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В. Е. Маковский, друзья и соратники Крамского, взявшие на себя претворение в жизнь его творческих и педагогических идей. Смерть Крамского современники восприняли как огромную, невосполнимую утрату, понесенную русским искусством. «Как незаменимы выдающиеся люди. Как они редко повторяются, даже и совсем не повторяются… Как, например, недостает Крамского», — писал и начале 90-х годов И. Е. Репин.
Вскоре после кончины художника, в том же 1887 году состоялась большая посмертная выставка его произведений, которая сопровождалась изданием подробного иллюстрированного каталога. Годом позже вышла в свет книга, которая и сегодня остается одним из важнейших источников фактических сведений, связанных с его жизнью и творчеством, — «Иван Николаевич Крамской.Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи». В предисловии к ней, а также во включенной в состли книги обширной статье автор и составитель этого уникального издания В. В. Стасов, указывая на особую роль, выпавшую на долю Крамского, — идеолога и организатора передовых сил русского искусства, одновременно выступал в защиту художника от нападок со стороны тех, кто пытался принизить его значение для нашей национальной культуры, умалить его вклад в нее как творца или же представить Крамского выразителем консервативных идей определенных кругов тогдашнего общества. В том же 1888 году появился один из самых ярких человеческих документов — неоднократно цитируемый нами очерк И. Е. Репина «Иван Николаевич Крамской (Памяти учителя)», вошедший затем в его знаменитую книгу мемуаров «Далекое близкое». В 1891 году был опубликован первый подробный очерк жизни и творчества художника, изданный в серии «Жизнь замечательных людей» и предназначенный для широкого круга читателей. В год двадцатилетия со дня смерти Крамского (1907) в его родном городе Острогожске была создана художественная галерея, ныне существующая в качестве художественного отдела местного краеведческого музея.
Этапным событием в изучении творчества И. Н. Крамского стала всесоюзная выставка 1937 года, посвященная его столетнему юбилею. Уникальная по полноте охвата творческого наследия выдающегося русского художника-демократа, она сопровождалась подробным научным каталогом. В связи с юбилеем была переиздана переписка Крамского. Советские исследователи 20—40-х годов проделали огромную работу по изучению его наследия, продолжалась она и в послевоенное время.
В 1953—1954 годах вышло в свет двухтомное издание «Переписка И. Н. Крамского», представляющее огромную научную ценность. В 1960 году появился сборник «Крамской об искусстве», в котором приведены отрывки из многих писем, статей и т. п., раскрывающие взгляды художника на задачи искусства, его отношение к важнейшим явлениям русской и мировой культуры, а также к отдельным мастерам. В 1962 году вышла в свет небольшая, скромно изданная монография А. Давыдовой, написанная живо, увлеченно и вместе с тем необыкновенно объективная и научно точная в суждениях и оценках. И, наконец, в 1965 году был опубликован капитальный труд — монументальная монография С. Н. Гольдштейн «Иван Николаевич Крамской. Жизнь и творчество», в которой искусство художника, рассматриваемое в контексте его эпохи, получило глубочайший научный анализ.
И. Н. Крамской сказал однажды: «Я думаю, что для человечества дороги не столько идеи художника, сколько холсты… Хорош холст — человечество сохранит и будет помнить имя автора; не хорош сам по себе — кончено, им дорожить не будут… Надо любить искусство слишком головой и теоретически, чтобы прощать художнику небрежное исполнение — ради идеи. Потом, идеи интересны, пока они новы, но раз им прошло одно-два поколения, они теряют свою остроту и интерес, и если в холсте, кроме идеи, не окажется чисто живописных качеств, картина отправляется на чердак». Очевидно, эти суровые слова художник полностью относил и к своему собственному творчеству, однако жизнь показала, что ни его идеи, ни его живописное наследие никогда не будут выброшены «на чердак» истории. И сейчас, когда мы отмечаем очередной крупный юбилей Ивана Николаевича Крамского — 150-летие со дня его рождения (а также столетие смерти художника, ведь обе эти даты стоят почти что рядом), отмечаем достойно его место и роль в русском искусстве, в мировой художественной культуре, издавая новые брошюры, книги и альбомы, посвященные его творчеству, устраивая выставки его произведений, мы понимаем, как глубоко был он прав, когда почти на пороге смерти писал: «За все русское искусство я спокоен и знаю, что оно себе рано или поздно, а завоюет уважение и уважение широкое». Это смелое пророчество великого русского художника сбылось полностью.
В. Б. Розенвассер
Об Иване Николаевиче Крамском нельзя судить по одним лишь его картинам и портретам: представление о нем будет весьма неполным. Уже Владимир Стасов, впервые собравший и опубликовавший в конце прошлого века письма и статьи Крамского, был поражен богатством идей и мыслей, которое представляет литературное наследие замечательного русского художника. Тогда же Стасов высказал предположение, что Крамской — мыслитель и ценитель искусства — едва ли не превосходит Крамского-художника. В этих словах знаменитого критика выразились его восхищение перед тонкими, оригинальными суждениями Крамского о судьбах российского искусства, о современных ему живописцах, в стасовской оценке сказалось искреннее уважение по отношению к беспокойной, цельной натуре идейного вдохновителя и вождя передвижников. Современники по достоинству оценили его переписку. Чехов сразу по выходе однотомника Крамского писал А, С. Суворину: «Благодарю Вас за Крамского, которого я теперь читаю. Какая умница!.. Наши беллетристы и драматурги любят в своих произведениях изображать художников; теперь, читая Крамского, я вижу, как мало и плохо они и публика знают русского художника».
С тех пор письма и статьи Крамского столь полно издавались лишь однажды — в 1937 году, к столетию со дня рождения художника, и стали уже книжной редкостью. И вот недавно в издательстве «Искусство»: вышло новое, третье издание литературного наследства художника— двухтомник его писем и статей, любовно составленный и тщательно подготовленный к печати известной исследовательницей творчества Крамского — С. Н. Гольдштейн. В двухтомнике две статьи художника и сто двадцать пять его писем опубликованы впервые — событие немалое.
Читая письма и статьи Крамского, снова убеждаешься, что талант по природе своей универсален; в какой области он проявит свою творческую способность — это дело случая или, как говорится, судьбы: в изваянии Венеры Милосской или в иконе Сикстинской мадонны; в храме Покрова на Нерли или в вагнеровских «Нибелунгах»; з поэме «Медный всадник» или в общей теории относительности. Иногда само время требует от человека многогранного творчества, и тогда рождаются Леонардо, Ломоносов, Гете.
Общественное движение в России 60 —70-х годов 19-го века породило новый тип художника-гражданина, для которого одинаково важно не только создавать картины, скульптуры, офорты, но и горячо отстаивать передовые творческие принципы своего времени. В письмах Крамского, пожалуй, наиболее последовательно воплотились лучшие черты художника-демократа: воинствующая пропаганда реалистического искусства, мучительные раздумья о судьбах русского народа, безоглядная преданность избранному делу. Весь жизненный путь Крамского с классической ясностью раскрывает судьбу многих художников того времени. В письме А. К. Шеллер-Михайлову Крамской рассказывал, как уездный писарь в Острогожске, обуреваемый страстью к рисованию, уехал к фотографу в Харьков «на заработанный рубль», чтобы три года служить ретушером и акварелистом; как он в 20 лет поступил в Петербургскую академию художеств, а через шесть лет, в 1863 году, возглавил известный «бунт четырнадцати» (точнее — тринадцати, так как один из них, Заболотский, вскоре откололся от товарищей). «Затем, женившись,— добавляет Крамской,— я начал вечную историю борьбы из-за куска хлеба, преследуя в то же время цели, ничего общего с рублем не имеющие».
Что же это за цели? Речь шла о русской национальной живописи, вдохновленной идеями Белинского и Чернышевского. В одной из неопубликованных при жизни Крамского глав его статьи «Судьбы русского искусства» говорится следующее: «Искусство может быть только национально, непременно национально и никаким другим быть не может». Сто лет назад эту, по нынешним временам бесспорную, истину нужно было отстаивать. Крамской отстаивал ее в Петербургской артели художников 60-х годов, в Товариществе передвижных выставок. Он мечтал о создании русской школы живописи, свободной от холодного академизма и плоского подражательства. «Русская живопись,— доказывал он Суворину,— так же существенно отличается от европейской, как и литература. Точка зрения наших художников, все равно литераторов или живописцев, на мир тенденциозная по преимуществу». Соглашаясь со Стасовым, который писал о критическом духе, пронизывающем русское искусство, Крамской с гордостью подчеркивал: «Он у нас есть действительно, и это одна из светлых точек и особенно потому, что он неумытный и без пощады и к своим и чужим».
В то же время художник предостерегал от рассудочной «игры в идейность», когда картина превращается в простую иллюстрацию к расхожему тезису. Крамской, который так много сделал для идейного самоопределения русской живописи, замечал Стасову: «Надо любить искусство слишком головой и теоретически, чтобы прощать художнику небрежное исполнение — ради идеи».
Впервые публикуемая в двухтомнике рукопись Крамского под условным названием «Письмо редактору» обнаруживает серьезную озабоченность художника по поводу распространившегося в 80-х годах «спекулятивного направления» в русской живописи, по поводу «обойного искусства», рассчитанного на внешний эффект. Имея в виду некоторые картины Клевера и Орловского, Крамской с горечью отмечал: «Они красиво лгут, они, как разговор в гостиных, всего слегка коснутся, но не всерьез… не принято, не комильфо. Прожить с такими картинами жизнь — нельзя; а искусство серьезное, искусство’кан сила, двигающа человека к прекрасному (т. е. к добру) есть по преимуществу и по существу интимное, братское, любящее».
Высоко ставил Крамской гуманистический пафос, нравственную проповедь русского искусства, которое взывало к истине, добру и красоте, побуждало к борьбе за освобождение человека. Перед Крамским и его друзьями был неповторимый пример творческого подвижничества — жизнь и труд Александра Иванова, гений которого надолго определил искания русских живописцев.
Пристально следя за успехами передвижников, Крамской трезво представлял художественные возможности многих своих товарищей, их предшественников. «Направление Федотова, Перова и Маковского,— считал Крамской,— в значительной мере не живописное, а литературное». Этот вопрос для самого Крамского в его творческой практике был предметом длительных раздумий, изнурительных художественных поисков. По отношению к себе он был самокритичен до конца. Он радовался достижениям младших соратников и учеников — Федора Васильева,- Репина, Куинджи — и не раз говорил, как трудно дается ему цветовой строй, колорит картины. По поводу полотна Ф. Васильева «В Крымских горах» Крамской признавался ее автору: «Я увидел, как надо писать». Может быть, поэтому так дорожил художник «Лунной ночью», «Неизвестной», «Осмотром старого дома», что в этих произведениях он особенно увлеченно работал над цветовой гаммой.
И все же идеолог Товарищества был убежден, что именно направление Федотова и Иванова приведет русскую живопись к значительным победам. В 1884 году Крамской доказывал Суворину: «Вcе говорят: русские художники пишут сухо, слишком детально, рука их чем-то скована, они решительно неспособны к колориту, концепции их несоразмерны, темны, мысли их направляются все в сторону мрака, печали и всяческих отрицаний. Ну, так я ж Вам говорю, что если зто верно (а дай бог, чтоб это было верно), так это голос божий, указывающий, что юноша ищет только правды, желает только добра и улучшения. Вы скажете: да художника-то нет! Верно, художника нет, но есть то, из чего только и может быть художник». В пору всеобщего признания передвижников Крамской задумывался над тем, «из чего» может быть художник.
Увидев первые произведения импрессионистов, Крамской не последовал за Стасовым и не обрушился на них с бранью, а попытался разобраться. В 1876 году он пишет П. М. Третьякову об импрессионистах: «Все их вещи не выходят пока из области попыток. Несомненно, что будущее за ними, только… когда оно наступит, я не знаю». А двумя годами раньше Крамской, обсуждая с Репиным судьбы искусство на Западе и в России, заявил: «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но… как сделать, чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество художника — сердце? Мудрый Эдип, разреши».
Мысль Крамского билась над решением труднейших проблем русского искусства XIX века. Потому письма его составляют одну из самыx драматических страниц в истории общественной мысли России, Крамской глубже других ощущал подспудные тенденции в развитии отечественного искусства и поднимал тревогу тогда, когда многим горизонт казался безоблачным. Примером исторического мышлении художника стали его сужденип о реорганизации товарищества в 80-е годы,за что друзья и соратники Крамского чуть ли не открыто обвинили его в ренегатстве. А руководитель Товарищества остро переживал положение руссного художника в период «безвременья» 80-х годов, отчетливо ощущал стремление к новым идеям, которые могли бы оплодотворить искусство. «Я все настаиваю,— писал Крамской Суворину в 1885 году,— на необходимости тенденции в искусстве, как я ее понимаю. Но вот мое горе — и я должен сказать, горе всего современного искусства: во имя чего искусство должно делать (т. е. обязано) подвиги? Что за идеал, к которому необходимо стремиться?.. Нет той песни, при звуках которой забились бы восторгом все сердца слушателей. О да, трудно теперь художнику! Клянусь, не легче и ему против тех, у кого ежедневная каторжная работа нервов, мозга и мускулов». В полемике с Сувориным Крамской выступил против определения искусства как средства «отдохновения», художник отстаивал самостоятельную роль искусства в познании и преобразовании мира.
Неотразимое обаяние писем Крамского, пожалуй, в том, что они доносят через десятилетия живую душу художника, неугомонную, ищущую мысль человека, который, по свидетельству Стасова, в продолжение многих лет был «учителем, руководителем, направителем нового поколения русских художников». Обаяние писем Крамского в том, конечно, что они откровенны. Он знал, что прямота высказываний нередко изолировала его от друзей. За год до смерти он писал Стасову: «В последние пять лет вокруг меня начала образовываться пустота. Очевидно, становится неинтересно знать: что скажет Крамской». Одно из интереснейших, впервые публикуемых писем к В. В. Верещагину заканчивается словами: «Я сказал все — т. е. очень много, больше, чем нравственное приличие, может быть, требует, но я покоен».
По напряженности духовных исканий письма Крамского приближаются к лучшим страницам переписки Александра Иванова, Герцена и Белинского. У Крамского не много окончательных формулировок, еще меньше безапелляционных нравоучений и приговоров.
В 1887 году, когда открылась посмертная выставка произведений Крамского, кто-то из друзей назвал его «вторым после Иванова русским мучеником искусства». Современный исследователь справедливо замечает, что Крамской, как и Александр Иванов, сознавал больше, чем мог сделать по условиям своего времени; сознавать это в самом деле мучительно. Но Крамской знал в жизни немало подлинно упоительных минут; ему была доступна высшая радость творчества.
Вл. Воронов.
Неизвестная. 1883 год.
Мы вновь возвращаться к полотну, задумываться над судьбой изображенной на нем таинственной незнакомки.
Невольно на память приходят строки некрасовского стихотворения
«Когда из мрака заблужденья я душу падшую извлек», посвященного той, которую поэт называет «дитем несчастья», а толпа клеймит позорным именем. Вспоминается и героиня тютчевской лирики, борющаяся за право любить, не считаясь с мнением света, любить наперекор и людям и судьям :
О, горе ей — Увы, дойное горе,
Той гордой силе, гордо-молодой,
Вступающей с решимостью во взоре
С улыбкой на устах—в неравный бой.
Когда она, при роковом сознанье
Всех прав своих, с отвагой красоты,
Бестрепетно, в каком-то обаянье
Идет сама навстречу клеветы…
За несколько лет до появления картины Крамского был опубликован роман Толстого «Анна Каренина».
Параллель между образом Анны и Неизвестной невольно возникала в воображении современников. Возможно, толстовская героиня и повлияла на самое рождение замысла Крамского. Особенно сцена появления Анны в театре, когда посторонние могли любоваться спокойствием и красотой этой женщины, не подозревая о том, что она чувствовала себя как человек, выставленный у позорного столба. Этот контраст внешнего и внутреннего мог поразить Крамского глубиной психологического конфликта. В своей картине художник выбрал момент, подобный тому, который изобразил Толстой, и сам как бы со стороны смотрит на свою модель, не открывая собственного отношения к ней, тем самым как бы заставляя зрителя додумывать судьбу изображенной женщины, напрягать свое воображение и фантазию.
Был ли знаком Крамской с рассказами Гаршина, помнил ли он одну из любимых героинь писателя — Надежду Николаевну, отторгнутую обществом, внутренне надломленную? Литературные примеры можно было бы множить до бесконечности, потом что образ женщины, противостоящей обществу, не принимающей его тупую и ханжескую мораль, был чрезвычайно популярен в прозе и поэзии 60—70-х годов 19-го века.
Связь с литературой продолжилась и в нашем веке. Картину Крамского все знают не под тем названием, которое дал ей автор, а под другим. Ее называют «Незнакомка», возможно, под воздействием блоковской «Незнакомки». Образы эти совсем не похожи, и все-таки какая-то внутренняя связь, на мой взгляд, между ними существует. В сознании большинства людей утвердилась мысль, что в русском искусстве существуют две «Незнакомки»: одна — Крамского, другая — Блока.
Кто знает, может быть, под влиянием Блока и возникла романтическая легенда о неожиданной встрече на улице, о красавице, преследовавшей воображение художника. Что ж, это еще одно доказательство живой жизни полотна.
Л.Осипова
Долгое время Неизвестная с картины Крамского считалась идеалом неземной красоты. Однако то, что завораживает посетителей — чувственная красота, блеск и надменный прищур слегка припухших глаз, — настораживает врачей. Скорее всего, Неизвестная страдала гипертиреозом — повышенной активностью щитовидной железы. При этом заболевании глаза приобретают особый «влажный» блеск, появляется пучеглазость. Кстати, именно гипертиреозом можно объяснить то, что Неизвестная одета слишком легко для зимы, — заболевание сопровождает повышенная потливость.
ИЗ ИСТОРИИ
Известно, что этот портрет Крамской, востребованный художник, начал писать внезапно, отложив самые важные и срочные заказы. Но о том, кто изображён на портрете, художник — любящий отец и прекрасный семьянин — не обмолвился ни в дневниках, ни в письмах, ни в разговорах. Тайну художника не разгадали даже дотошные исследователи его творчества.
Подозревают, её знал лишь Павел Третьяков. В своей галерее он собирал всё, что писал любимый художник, но «Неизвестную» не купил, заявив, что этой кокотке в его собрании не место. Интересно, что в современной композиции картина висит напротив портрета Третьякова кисти того же Крамского, с которого галерист смотрит на Неизвестную исподлобья.
В 1987 году совпали две памятные даты, связанные с именем известного русского живописца Ивана Николаевича Крамского,— 150-летие со дня рождения художника и 100-летие со дня его смерти.
Ленинградский искусствовед И. Яблошникова завершила недавно работу над биографической повестью о жизни и творчестве И, Н, Крамского. Отрывок из нее мы предлагаем сегодня вниманию читателей.
В мастерской темнело. Закат за окнами был рыже-медным, и лиловые рваные тучи быстро проносились с запада на восток. Ветер крепчал, и уже не раз стреляла пушка с Петропавловской крепости — ждали наводнения.
Крамской отложил кисти. Писать уже нельзя, темно. Вот рисовать… Если придет Софья Николаевна, как обещала… Обещала прийти попозировать. Не надо думать ни о чем другом. Работа, работа… Скоро писать на большую серебряную медаль.
Опять грохнула пушка с крепости. и в ответ тонко зазвенели стекла окон. Ветер, кажется, еще усилился, вон как гонит по набережной людей, рвет полы одежд, уносит шапки. Забарабанило в стекла, точно град — нет, просто крупные капли дождя. Откуда дождь — и туч-то дождевых не видно! Но снова словно горохом бросило в окно. И тут Крамской, глядевший на набережную, увидел Софью Николаевну. Придерживая одной рукой шляпку, а другой ловя взлетающую юбку, погоняемая ветром, она бежала наискось от сфинксов ко входу в академию. Он бросился к ней навстречу. Глухая винтовая каменная лестница, гулкий коридор, вестибюль — нет ее! И вот в подъезде, промокшая от дождя, с разрумяненным от ветра лицом, с глазами испуганными и блестящими, тянет на себя тяжелую створку дверей, которую не дает открыть ветер.
.— А я думал, испугаетесь непогоды.
Она не ответила, вскинула и опустила ресницы, еле переводя дыхание.
Позже, в мастерской, освещенная мягким желтоватым светом масляной лампы — керосиновые новинки еще не появились в академии,— Софья Николаевна, сидя в кресле, позировала Крамскому. Мокрая тальма сушилась на спинке кресла, шляпка-капор, помятая ветром и потерявшая форму, лежала на столе.
Стекла окон уже непрерывно дрожали под ударами ветра.
Рисунок получался удачным. Темные, слегка вьющиеся волосы мягко обозначают контур лица и шеи, внимательно и серьезно смотрят глаза из-под почти прямых бровей, что придает лицу немного строгое выражение. И. как всегда, самолюбиво сложены губы маленького рта. Блики света лежат на лбу, скользят узкой полоской по носу, подчеркивают выпуклость губ и округлость подбородка. Узкий белый воротничок окружает шею.
Художник не только видит свою модель. Он очарован ею. И рука его послушна не только глазу, но и сердцу.
После очередного выстрела сигнальной пушки Софья Николаевна поднялась.
— Мне пора идти.— Она подошла к окну и вскрикнула:— Ой, смотрите!..
На набережной колыхалась вода. Булыжники мостовой исчезли. фонари отражались в окружавшей их воде, многие из них задуло ветром, и они торчали, как погасшие маяки. Проехал извозчик — вода была по ступицу колес.
Из парадного подъезда было не выйти — вода заливала плиты пола вестибюля, правда, еще не высоко, только по щиколотку, но прибывала с каждой минутой. Они метнулись обратно, пробежали коридорами до выхода во двор, через литейную мастерскую прошли к выходу на третью линию, но и там уже стояла вода. Другого пути не было.
— Вернемся в мастерскую. Как только схлынет вода, я провожу вас домой.
За руку, как маленькую девочку, повел ее по плохо освещенным коридорам и темным лестницам назад, в мастерскую.
Тускло светила притушенная лампа. Рисовать больше не хотелось. Пытался делать наброски к будущей картине, но Софья Николаевна нервничала, поминутно подходила к окну и смотрела на Неву.
Стемнело. В пустом коридоре гулко отдались шаги сторожа, который, позвякивая ключами, шел с обходом. Слышно было, как он дергал двери мастерских, проверяя, заперто ли.
Крамской погасил лампу — свет, падавший из-под двери в коридор, выдал бы их. Сторож стал бы стучать: вечерами, когда кончались занятия, не разрешалось жечь лампы в мастерских — боялись пожара.
Когда шаги сторожа стихли, Софья Николаевна отошла от окна.
— Что же делать? Иван Николаевич!
— Пойдемте наверх, а то здесь и сидеть неудобно, устанете.
Наверху, на антресолях, куда вела узенькая’скрипучая лесенка, около полукружия окна стояла кушетка, рядом на небольшом ломберном столике— подсвечник с абажуром в виде зеленого опрокинутого корытца без дна, укрепленным на бронзовом стержне, по бокам которого располагались две свечи. Белая изнанка абажура была слегка закопчена.
Для многих учеников академии, которые готовились писать картины на серебряные и золотые медали, индивидуальная мастерская становилась вторым домом. А иногда кое-кому и единственным.
Внизу, в узком, чуть шире окна помещении, собственно мастерской, наискось можно было поставить большой холст на мольберте. Тут же находился широкий табурет, или небольшая скамья, где стоял глиняный обливной горшок с набором кистей, банки и тубы с красками, бутылки с маслом и скипидаром, тряпки и ветошь. У стены — полка с альбомами, рулоны бумаги и холста. Под окном — кресло для отдыха,
А наверху, на деревянных антресолях, была как бы жилая комната, где можно было полежать на узкой кушетке, когда все тело ныло от многочасового стояния перед мольбертом: можно было и переночевать, когда сроки сдачи картины торопили и работать приходилось, пока руки держали кисть.
Софья Николаевна остановилась у окна, нагнувшись, вглядывалась в темную воду, разлившуюся по» набережной.
Отвернулась, зябко передернув плечами.
— Что же делать? Господи что же делать?!
— Вы удивитесь, а я так даже рад. Наконец мы можем поговорить, не опасаясь, что нам помешают. Дверь внизу я запер.
Вот теперь и надо было сказать все, что накопилось за четыре долгих года, с того самого дня, как он впервые ее увидел. И про зависть к Константину Иванову, и про то, как долго и мучительно он приглядывался к ней. не понимая и осуждая ее. и как терзался ее болью, когда Иванов уехал… Что ж, все это было в духе времени, но не совпадало с его требованиями к жизни.
Что заставило его полюбить вопреки, казалось, всему? Ведь знал, что и мать, и старый товарищ Тулинов, и друзья-земляки Никитенки будут против. Ведь сам хотел любви чистой?..
Но что было противопоставить ее полному самоотречению. ее готовности не только не задерживать его карьеры, но и помогать ей: признавать его интересы в жизни и искусстве своими: ее согласию есть тот же хлеб, что и он, и находить, что это не только не скучно и бедно, но весело, сытно и здорово: ее готовности идти с ним рядом всю жизнь, на каких условиях он хочет, и не думать ни о каких торжествах и обрядах…
Да, она могла стать ему другом и женой.
…Так вот и пришел тот вечер. первый вечер и ночь, с которой началось его настоящее счастьее
Год одна тысяча восемьсот шестьдесят третий богат событиями в жизни Крамского. Свидетельствуют документы:
«БИЛЕТ.
Из Императорской Академии Художеств, состоящему в числе вольноприходящих учеников ея. Ивану Николаеву сыну Крамскому в том. что он имеет право проживать на квартирах в С. Петербурге, при исправном посещении Академических классов в течение нынешнего 1863 года; с истечением сего срока билет сей должен быть возвращен в Академию, с заменой другим или с прекращением выдачи такового. Во уверение чего и дан ему, Крамскому, сей билет, с приложением Академической печати. СПб. Февраля 18 дня 1863 года. Конференц-секретарь Федор Львов».
На обороте было написано: «Означенный в сем ученик Иван Крамской по документам ИАХ значится холост, в чем канцелярия оной Академии свидетельствует. Октября 16 дня 1863 г. Производитель дел В. Зворский».
И ниже: «Означенный в сем билете ученик Имп. АХ Иван Николаев Крамской, сего тысяча восемьсот шестьдесят третьего года Октября шестнадцатого числа, вступил в первый законный брак с С. Петербургскою мещанкою девицей Софиею Николаевою Прохоровою.
Каменноостровской церкви священник
Сидор Ставровский.
Окт. 16 дня
1863 года».
Поезд замедлял ход у перрона, втягиваясь под своды Варшавского вокзала. Иван Николаевич. уже одетый, стоял у окна, наклонившись к стеклу, смотрел, как то пропадали в облаках пара, то снова появлялись фигуры встречающих, бежали, поблескивая номерными бляхами, носильщики, и вдруг увидел невысокую фигурку старшего сына, тринадцатилетнего Николая, в синей бекеше и башлыке, растерянно глядящего на проплывающие мимо окна поезда. Крамской помахал, потом постучал в стекло.
Николай увидел наконец отца, стремительно ринулся к дверям вагона, опережая носильщиков. впрыгнул на площадку. протиснулся меж столпившихся у выхода пассажиров к отцу, прижался захолодевшим лицом, щекоча шершавым башлыком.
— Как ты долго не приезжал! — И укор, и радость были в шепоте сына.
Извозчик повез их по Измайловскому проспекту, мимо тяжелой громады Троицкого собора. Коля помалкивал, односложно отвечая на отцовские вопросы.
В квартире стояла тишина. Иван Николаевич кинул шубу на ларь в передней, снял шапку и кашне.
Николай быстро разделся и ушел в свою комнату, в мальчиковую. где он помещался вместе с Анатолием.
Из гостиной выглянула Сонечка— бледненькая, в черном платьице, делавшем ее старчески хрупкой. Не взвизгнула. не бросилась отцу на шею, как бывало.— медленно подошла, подставила под его поцелуй светловолосую головку и, вцепившись в рукав отцовского дорожного сюртука, прижалась к нему лицом, заплакала, тихонько всхлипывая.
Иван Николаевич почувствовал, как спазмой перехватило горло, горячо стало под веками — сдержался, переборол себя: впереди еще была встреча с Софьей Николаевной. Он погладил Сонечку по тонким светлым волосам, с тревогой всматриваясь в ее осунувшееся, бледное личико, и тревога за детей, жалость к ним, таким маленьким и беспомощным, таким любящим и чистым, надорвала сердце.
— Что мама? — шепотом спросил он Соню.
— Она у себя, в спальне.
Но Софья Николаевна уже шла к нему навстречу. И взглянув на нее. он ужаснулся, что сделала смерть сына с молодой еще, тридцатисемилетней женщиной.
Он увидел ее через гостиную: она вышла из спальни и шла к нему— измученное лицо с покрасневшими веками и скорбно сложенными губами, которые все кривились, пока она шла. Черное траурное платье делало выше и стройнее фигуру. А волосы, русые, с золотистым отливом, какими он их знал и помнил, покрылись, как паутиной, сединой.
Он протянул к ней руки, взял в ладони ее исхудавшее и состарившееся лицо, приник губами к векам покрасневших глаз, чтобы не видеть их полубезумного выражения.
— Соня, родная!..— Он чувствовал соленый вкус ее слез, проступавших из-под век и медленно, с остановками в маленьких морщинках, стекавших со щек, по горькой бороздке от носа к вздрагивающим губам,
И в спальне, куда он увел Соню, он не мог разговорить ее. она сидела, прижав пальцы ко рту, точно зажимая готовый вырваться вопль, смотрела остановившимся взглядом в стену, чуть покачиваясь из стороны в сторону, словно убаюкивая свою боль.
Здесь не выдержал и он. Но слезы, горячие и скупые, не принесли облегчения. Страх за жену, за ее состояние заставил его забыть, что он еще не был у Ванечки, у младшего, еще неделю назад тоже стоявшего на пороге смерти.
…В спальне пахнет валерьяновыми каплями. Софья Николаевна наконец заснула. Но дышит неровно, временами прорываются всхлипы, вздохи. Свет ночника еле просвечивает сквозь голубой матовый абажур-шар. От окна тянет холодом.
Крамской, опершись на локоть. смотрит на лицо жены. Сейчас, спящее, с глубокими тенями, оно кажется еще изможденнее. чем при встрече.
«Бедная Соня.— думает он.— Бедная мать… Ведь это горе, горе матери — что с ним сравнится… Марочка, мальчик мой…»
Под веками горячо от слез.
Крамской тянется к ночнику. крутит винт, убирает фитиль. Светлячок пламени тает и гаснет.
Он вздыхает и поворачивается на бок. Сейчас он почти завидует жене, что та спит. Горе отняло у нее силы, но дало сон. А у него сна нет. Известие о болезни, а затем о смерти Марочки, полученное в Париже. поразило его. Был момент исступления, негодования: «За что?! Зачем отнимать у меня сына, любимого, маленького, лучшего из всех по сердцу?..»
Не бросился сразу в Петербург, было поздно. Держался работой — писал свою огромную. так и оставшуюся незаконченной картину «Хохот» — Христос перед Пилатом.
А потом пришло известие о тяжелом состоянии Софьи Николаевны и Вани… Отъезд… Брошенная работа, ради которой и была задумана эта поездка, хлопоты и сборы предотъездные…
Наверно, еще и то, что не видел сына мертвым. Завтра поедут на кладбище. Там тоже — заснеженный холмик, запах хвои, замерзшие цветы…
А в глазах — живой Марочка.
Соне горше — на ее руках умирал сын. Все, все видела и помочь не могла. Тут и вправду сойти с ума можно.
…Как она шла — точно падая на каждом шаге, черный силуэт на белой двери, и там. за ней,— свет красноватый.
«Господи, о чем я думаю!..» Он зарылся лицом в подушку, стараясь отогнать от себя это видение. Отец боролся с художником. Он горевал о сыне, он жалел жену, боялся за нее
— и тут же, точно сторонний наблюдатель, вбирал в себя все зримые черты материнского, неутешного горя. Отгонял их от себя как кощунство. но в памяти откладывалось все увиденное.
…На двенадцатой выставке передвижников в 1884 году появилась картина Крамского «Неутешное горе». Семь лет вынашивал он ее в душе.