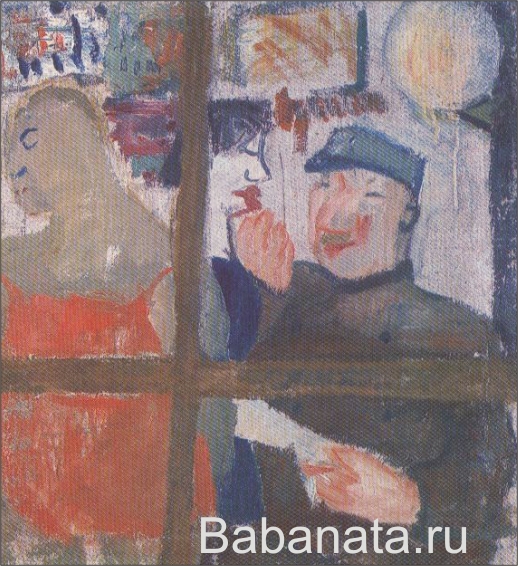Неменова Герта
Неменова Герта
Неменова Герта Михайловна (1905-1986) — русский советский живописец, график. Родилась и всю жизнь прожила в Петербурге. Училась во ВХУТЕИНе у Альтмана и Петрова-Водкина. Училась в Париже у Фернана Леже. Жена В. Курдова.
Как знать, может, так и надо жить… Но мере того, как ум освобождается, душа освобождается, появляются другие ценности. Начинаешь понимать свободу — что это такое. А раньше жизнь этой женщины нам всем казалась, по меньшей мере, странной.
Этюд к автопортрету.
В первой комнате была выгородка, как бы полутемная прихожая, другая половина светлая. Окна выходили на Большой проспект Петроградской стороны. Здесь Герта Неменова работала, здесь принимала гостей, здесь мы пили чай, здесь, наверное, она и спала на продавленном диванчике. Была еще вторая комната, куда никто не входил. Дверь туда была всегда притворена. Там было хранилище. Туда складывались ее работы, стояли старые картины, еще что-то. А вообще это была петербургская квартира, давно превращенная в коммуналку. Комнаты Герты были запущенные, закопченные, пропахшие табаком, обставленные… да вроде ничем не. обставленные.
Я знал ее лет двадцать, и все оставалось неизменным — и она сама, и все вокруг нее. Новыми были ее работы. Графика. Она писала графику. Когда мы познакомились, Гоголь её, знаменитый портрет Гоголя, был уже написан. Она занималась театром. Она приходила в театр и делала портреты актеров. Тех, кто ей нравился. Ее не замечали. Худенькая, маленькая, неопределенных лет, она умела быть незаметной, ее молчание не тяготило. Если она говорила, это звучало неожиданно, остро. Одевалась она небрежно, кое-как, почти бедно, никому в голову не приходило, что это известная художница. Впрочем, непонятно было и почему известная. Известность пришла к ней помимо ее воля, без персональных выставок, которых никогда не было, без статей, без монографий. Разве что Гоголь, размноженный, пошел гулять по всему миру. Сама она ничего не делала для славы. Жажду признания она удовлетворяла так: звала к себе, допустим, меня с женой и показывала наработанные листы графики. Перекладывала один лист за другим, следила за выражением наших лиц.
Кроме небольшого круга друзей, бывали у нее какие-то юноши, девицы, бомжи, какие-то непристроенные, чудаковатые молодые люди. Появлялись и исчезали. Пили чай с хлебом, без конца курили… Эта была богемность, но не в бранном значении, а в том хорошем, высоком, в каком мы обычно не употребляем это попятие. Богемность была свободой от погони за деньгами, за заказами, свободой от вещей, от суеты в Союзе художников. Может, она сохраняла традиции парижской богемы тридцатых годов, а может, и русской, с прекраспой беспечностью к буржуазным условностям и правилам благоразумной жизпи.
Полтора года она жила в Париже, училась у Леже. Там, в Париже, она подружилась с Ларионовым и Гончаровой. Рассказывала об этом скучно, неохотно. Однажды ее упросили выступить в Союзе художников с воспоминаниями. Она волновалась перед выступлением, у нее не было никакой практики публичного говорения. Я посоветовал ей написать текст. Слава богу, текст этот сохранился. В нем чувствуется своеобразие ее отрывистой, иногда вроде несвязной речи, где на самом деле мысль движется прыжками, важнейшими штрихами. Это похоже на ее портреты, линия прерывается там, где воображение может продолжать самостоятельно, без художника.
Живопись парижского периода хранилась в той заповедной комнате и была мало кому известпа. Герта Михайловна ее редко кому показывала. Я видел тогда лишь несколько ее живописных картин. Помню, как меня поразила «Балерина». После войны живопись ее стала как бы потаенной, писала немного, для себя; для остальных перешла на графику.
Только ныне перед нами открылось ее живописное наследство. Картин немного, пейзажи, портреты, натюрморты. Они превосходны по цвету, по колориту.
Стакан пива.
Какое нежное лицо, какие живые глаза в портрете девушки. Уголок, очевидно, Парижа, мансарды, подвыпившая женщина — «Стакан пива», ее ослабевшие губы, блуждающие краски лица… Это все не только настроение, пульсирующий свет, это еще ее, Неменовой, рука, ее манера, ее устройство художнического глаза, то, что так дорого в каждом художнике — отдельность. Впервые становится ясно, какой превосходный живописец была Герта Михайловна Немепова. Открытие позднее, но счастливое. Разумеется, жаль, что живописный талант ее не мог нормальпо осуществиться, она понимала, что острая ее живопись непроходима, и страдала от того, что тот парижский расцвет прервался. Может, она не решалась?
Люксембургский сад. (этюд)
Впрочем, это похоже на упрек, а есть ли у нас такое право? Вряд ли по возвращении па родину в 1930 году она могла пр.одолжать то, что делала в Париже. Ее парижская живопись не укладывалась во все ужесточавшиеся нормы соцреализма. И окружение было не то, и настрой не тот, и требования… Нет, наворное, надо быть благодарными и за то, что мы получили. Она сохранила себя, это тоже немало. Сохранила свою независимость, внутреннюю свободу. Она не могла «расписаться» в живописи, она перешла в эстамп, рисунок, создала отличные иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», портреты Достоевского, Марселя Марсо, Чаплина, многих актеров, просто людей.
Я впервые увидел ее молодой на этюде к автопортрету. Вот какой прелестной она была, вот какой знали ее Ларионов, Пикассо, Карзу и какой никогда не зналв мы. И откровенно и с горечью признаюсь — не очень-то представляли масштаб ее таланта. Она и сама к тому не стремилась, и в этом она была свободным человеком…
Д. ГРАНИН
Г. НЕМЕНОВА
ПАРИЖ… ПАРИЖ
…Если я себе разрешаю вспомнить то, что записала, то единственно из чувства благодарности и восхищения к двум замечательным художникам — Наталье Сергеевне Гончаровой и Михаилу Федоровичу Ларионову, с которыми встречалась в 30-х годах в течение года с лишним в Париже. К сожалению, я не была свидетелем значительных событий и фактов в жизни Гончаровой и Ларионова, а только бытовых и случайных.
Мы пришли в мастерскую к Гончаровой с Михаилом Петровичем Кристи на Tue de Seine. Ларионов мне потом сказал, что в этом доме была первая печатная мастерская Бальзака. Ларионова не было. Гончарова была высокая женщина, довольно молчаливая, но решительная; хотя каждый раз, когда она,говорила, казалось, что она что-то преодолевает, несмотря на эту решительность. По-моему, у меня были с собой фото с живописных работ и блокнот. Она, к моему изумлению, сказала, что ей нравится, как я рисую зверей. В следующий раз я принесла живопись, сделанную уже в Париже, и она сказала: «А Вам должен быть ближе Ларионов». В это время Ларионов пришел. Это был очень крупный человек и полный, в шляпе; пальто он носил обычно внакидку, и хотя я никогда не видела Шаляпина, только на фото, мне показалось, что он того же склада. Он немного шепелявил и довольно быстро говорил…
Так началось мое с ними знакомство. Наталья Сергеевна ко мне очень скоро привязалась, по вначале относилась строго, недоверчиво и явно меня проверяла. Это было ей свойственно, но я никогда ни о чем не просила, и недоверие исчезло…
Мне был неприятен один художник. Н. С. он тоже не нравился, но она сказала, что я ему симпатизирую, и убедить ее в обратном было невозможно. Работала она все время, беспрерывно, всегда — или для театра, или писала. Одета она была более чем скромно, во что-то темное. Ларионов — наоборот. Он был гурман. У него был хороший вкус. Ходил одетый небрежно …Ко всему, я не должна была задавать вопросов, касающихся их. Например, я спросила: «Художник Андрей Гончаров из Москвы — Ваш родственник?» Кстати, я никогда не видела этого художника. Н. С. страшно рассердилась. От обиды или для самоутверждения я сказала: «Мне плевать, я из вежливости». Я заметила, что она очень чувствительна, и чтоб разряжать время от времЬни свои промахи, пела ей придумапное, конечно, не для нее нечто («Я бедный маленький грибочек, один покинутый в Париже, которого никто не любит и только мучают» ), она умилялась, но, вероятно, Ларионов в этом плане ее ко многому приучил.
Сквозь окно.
У них было много квартир. Кроме мастерской, я была не то в одной, не то в двух, заваленных до потолка работами, кроме того, еще каким-то бесконечным количеством неопределенных предметов и книг, так как Ларионов любил все приносить и умел находить прелесть и интерес ко всем, а имел вкус тончайший. Ларионов очень любил Дягилева и считал, что это был гениальный человек. Чтоб не забыть: он любил Лескова и Мельникова-Печерского.
Я пошла в банк получить деньги, которые мне прислал отец, а Михаил Федорович пошел со мной. Нарисовал в моем блокноте два рисуночка: «Вот подохнет Ларионов и скажут — какой был художник». Он знал, как я относилась к его вещам, но его явно раздражало, если нравились другие художники, кроме него. Я ему об этом сказала.
М. Ф. получил приглашение в полпредство на прием. Н. С. не пошла и сказала, чтоб он пошел со мной. «Наточка, дай деньги на шляпу», — он пошел ее покупать; мы ждали на улице, и Гончарова, улыбаясь, смотрела в дверь, как он это делает. Ларионов вышел в красивой серой шляпе, берет такси. «Наточка, тебе не кажется, что на Гердочке много нацепле-по?» — «Нет, все очень хорошо». На мне действительно было многовато надето… По дороге мы с ним немного поссорились. (Я спросила: «Вот Вы меня везете, а вдруг у меня бомба?» Кроме того, у такси, которое он взял, был облезлый вид, а я была к этому чувствительна.)
Была ретроспективная выставка Делакруа. Мих. Фед. спрашивает: «Как Вам?» Я говорю Ларионову, что есть художники, которые делают большие головы или наоборот, имея в виду восприятие пропорций; он раздражился и долго со мной спорил. На другой выставке висел холст Кирико. Кирико мне всегда нравился и нравится. То был один из вариантов «Археологов»: «Это просто подражание французам XVIII века, гравюрам». Ларионов любил Хуана Гриса, Константина Гиса — я помню, он рассказывал мне его биографию. «Почему Вы боитесь быть несовременными, все равно Вы из времени не выскочите…»
Говорили Гончарова и Ларионов — она бегло, он почему-то нет — оба с сильным русским акцентом; он просто как будто намеренно выговаривал французские слова, как русские, и вообще он ребячился и всякий повод служил ему как бы для какой-то игры. А необходимость — я знала только мелочи — им еле преодолевалась. Нат. Серг. нужен был лимон — мы находились в одной из их квартир с темными, как будто копчеными обоями и темным потолком. «Наточка, я не смогу купить лимон,— он почти ушел, вернулся,— Наточка, я, может быть, куплю лимон»,— и так много раз возвращался, не помню, чем это кончилось. Она не раздражалась и, по-моему, даже смеялась: вот он такой.
В кафе.
Они обедали в маленьком шоферском ресторанчике «Маленький Бенуа» близко от мастерской,— все это было на Монпарнасе. Там же обедали Корбюзье и его кузен Жаннере. Вначале Гончарова и Ларионов брали меня с собой, потом я ходила по их настоянию и сама. У Михаила Федоровича были больпые почки. Он заказывал хлеб без соли и тут же ел какую-нибудь особо острую пищу. Иногда происходили гастрономические сюрпризы. «Вот Вы знаете, ведь Вы сейчас ели лягушек»,— сказал Михаил Федорович. Я вяло ответила: «Похоже на тощих цыплят в сухарях». Они мне предложили замечательное медового цвета вино: «Это испанское Порто». Я заказала еще и еше, «Встаньте»,— сказала Гончарова. Встать я не смогла, и мы ждали около получаса.
Ларионов мепя знакомил с разными людьми, с Корбюзье и Жаннере, конечно. «А это автор „Трехгрошовой оперы»»,-он делался суетливым. «Это Лифарь»,-с ним они очень дружили, их связывал Дягилев, о котором Михаил Федорович без конца вспоминал и мне много рассказывал. Попутно он меня воспитывал: никаких разговоров о неправильном пользовании языком и так далее. После обеда Наталья Сергеевна обычно шла работать, а ему говорила (правда, это было не так часто): «Ну, иди с Гердой смотреть картины». Эти прогулки с Ларионовым не на специальные выставки, а в магазинчики или магазины были необычанно интересны. Иногда мы заходили внутрь, иногда смотрели выставленное наружу. Раз или два ко мне приходила Наталья Сергеевпа, а Ларионов заходил чаще и смотрел работы у меня дома. Помню, как-то я рассказывала о таинственной мясной, прохожем и голубых сумерках к вечеру. «Напишите это». Когда я принесла холстик, Н. С. сказала: «А Вы лучше рассказывали, чем написали». «Нет, не без прелести»,— сказал Ларионов, но он, вероятно, иногда видел то, что хотел. Но это была мягкость поверхностная, он при недовольстве делался резким и жестким. Н. С. была добра, такой мрачноватой и скромной добротой. Она любила Цветаеву и мне даже читала «Расставаться — такое слово…». Мне тогда эти стихи не поправились, я привезла из Ленинграда Б. Пастернака.
С самого начала я должна была рисовать в Лувре римские гробницы. Нат. Серг. объяснила, что сделать, чтоб платить мало или вообще ничего. Я ходила месяцами в Лувр рисовать и показывала им. Затем — в Grande Chaumiere, студию с обнаженной натурой. Жетоны покупались заранее, пока были деньги. Затем один художник посоветовал мпе выставиться в Осеннем Салоне. Вначале я думала отправить два холста. «Выставляйте только равноценное, разве Вам все равно, что именно возьмут?» — сказала мне Гончарова. Затем она указала мастерскую, где оформляли холсты. «Надо стекло». Когда я пришла, мне сказали: «Madame Гончарова заплатила». Это было дорого, и я очень расстроилась, но поняла, насколько она ко мне хорошо относится. Я носила ей цветы — она их любила и очень хорошо писала. Я ходила неважно одетая — Н. С. сосватала мне какое-то красивое и недоступное платье очень дешево.
Чайные розы.
«Работы нельзя дарить, только продавать. Если за плохую вещь заплачен рубль, ею дорожат больше, чем дареной хорошей…»
По-моему, она не спорила с Ларионовым, а только убеждала…
Раз произошло то, чего мне очень хотелось: Михаил Петрович Кристи, Ларионов и я пошли к самому крупному маршалу Полю Розенбергу. Магазин паходился напротив дома, где жил Пикассо. Ларионов и Кристи прошли вперед, а я застряла у окна, где обычно рассматривала «Девушку в зеленой шляпе с вишнями» Ренуара. Но я заметила, что они задержались в дверях с каким-то невысоким человеком, вероятно, Пикассо. Так оно и было. «Вот Вы так хотели увидеть m-r Пикассо, познакомьтесь». От восторга я хотела закурить: «Спички!» — «Спицки»,— сказал Пикассо. Он, кажется, и дал мне прикурить. Ларионов: «Жена m-r Пикассо русская». Я стала говорить с Пикассо. «Вот, видите, как наша молодежь Вас тонко воспринимает»,— сказал Ларионов. Пикассо, с которым мы шли и говорили, был явно доволен. «Вы любите Руссо, вот когда Вы ко мне придете, у меня висит очень хороший Руссо над кроватью». А в магазине он просил показать нам свои последние работы. Он дал свою карточку Кристи, с тем, чтобы мы к нему пришли, и ушел. На Михаила Федоровича я боялась посмотреть: «Ну и девочка» и так далее. Михаил Петрович сказал, что, конечно, никуда со мной не пойдет. Потом Ларионов повел меня к Гончаровой, наверное, прямо силой. Открыл дверь. «А Гердочка твоя дура порядочная». Я взревела, она сразу сказала, почему. И под этот рев Ларионов уговаривал меня, что бал, макет которого я клеила, он обязательно попросит Корбюзье посмотреть — то, чего я совершенно не хотела. Через некоторое время Ларионов мне сказал: «Вчера обедал у Пикассо» и, кажется, что-то вроде, что Пикассо знает его, Ларионова, качества художника. Еще вскоре на театральной выставке: «Что ж Вы опоздали, был Ваш Пикассо с собакой и сыном, уже ушел».
Как-то Ларионов мне сказал: «Я воспитывал такого помора, волчонка. Очень талантливый. Его фамилия Татлин». Я очень обрадовалась, что ему нравится Татлин, и рассказала, что о нем знала.
Кажется, Ларионов посоветовал мне поступить в academie-moderne к Леже. Я пошла на плакатное отделение.
Как-то в кафе продавец-итальянец принес изделие из какого-то розоватого вещества под мрамор, нечто рыночное и очень сладостное. Я купила такую вазу, в нее втыкались на металлических стержнях четыре голубка. Я ее написала с розами. Ко мне зашел Ларионов и сказал, чтоб я оставила холст в том состоянии, в котором он и сейчас находится. Перед моим отъездом он попросил или я ему предложила эту вазу (она ему нравилась, и я при нем ее купила), но одного голубя увезла, он у меня и сейчас. Михаил Федорович настаивал, чтоб я не забирала птицу. Наталья Сергеевна положила конец спору: «Миша, тебе же отдают всю вазу». Об этом- Михаил Федорович упоминает в письме, которое он мне написал в Ленинград. На фоне этой вазы я еще написала небольшой портрет моего тогдашнего приятеля художпика Карзу (портрет у него). Карзу нравился Наталье Сергеевне: «Вот у него искреннее лицо». В кафе я сделала набросок с Карзу на мраморном столике, и мне было жаль его там оставить. Карзу уже ушел, я не уходила. Ларионов, нетерпеливо: «Идите и купите кальку».— «А если сотрут?» — «Мы подождем». Михаил Федорович просил оставить ему холст — балерину, которая выставлялась в Осеннем Салоне. Опять Наталья Сергеевна прекратила спор и решила, что я сделаю копию: «Знаете, у Михаила Федоровича архив». Копию я сделала акварелью. Ему понравилось, как будто, и, кажется, он говорил с одобрением о растеках. Михаил Федорович попросил подписать. «Я не знаю, не умею, что надписать такому ужасному Ларионову».— «Так и напишите: такому ужасному Ларионову». Так и написала.
У Натальи Сергеевны при мне была выставка натюрмортов, очень красивая, и постановка в Гранд-Опера, которую я не видела. Михаил Федорович рассказывал мне, как ему надоедала билетерша и что он ей сказал, на что я ему предложила более едкий вариант. Разговор происходил на квартире при Наталье Сергеевне. Тогда я еще не читала Рабле, теперь я понимаю, до чего ему были сродни герои «Пантагрюэля». Я допытывалась о степени успеха Натальи Сергеевны, и мне влетело от него за мои выяспения. А успех был очень большой. Как-то Гончарова сделала для одной танцовщицы костюм и показала мне эскиз. По-моему, она поняла, что мне не очень нравится. «Посмотрите». Я была на этом вечере, там было много хороших костюмов, но костюм Гончаровой был вне сравнения.
Ларионов написал лимон. Я не помню среды этого натюрморта, но это было великолепно, это была формула, симфония лимона. Потом он ввел этот лимончик в триптих — с женской фигурой (насколько я помню, красная охра + белила) и веточкой винограда без ягод. Это были очень узкие небольшие холсты в деревянной окантовке (возможно, женская фигура была на доске). Когда я приходила в мастерскую, он без конца тер окантовку тряпочкой.
Еще была выставка Дягилевского русского балета. Эскиз Ларионова про Лиса был хорош и при всей его остроте умилен — на его, Ларионова, лад.
Раз я была у них в мастерской, и он менял дату в подписи. Я спросила, зачем, и мне здорово опять влетело. Он хвалил Якулова, чего я не могла понять. Это когда я рассматривала книжку, которую он мне подарил,— «Русские балеты Сергея Дягилева».
Как-то вечером меня позвали смотреть испанок Гончаровой. На панно были женская фигура и собака. Мне тогда не понравилось, что разные формы у женщины и собаки были одинаково нарушены одним и тем же приемом. «Вот видишь, Наточка». Гончарова написала много этих испанок. И совсем на днях я смотрела английский журнал и узнала испанок. Теперь они принадлежат киноактрисе Софи Лорен.
Гончарова и Ларионов были в разводе, может быть, и не официально, я не знаю. Во всяком случае, у Натальи Сергеевны был приятель, кажется, журналист, он мне не нравился. А Ларионов дружил с девицей, мне тоже малосимпатичной, на которой после смерти Гончаровой и официально женился. Я не скрывала своих антипатий. С девицей я мало сталкивалась, а журналист иногда цриходил обедать в «Petit Benois» 8, и я не была с ним слишком вежлива. Ларионов с удовольствием пользовался случаями, и когда тот уходил, говорил: «Смотри, Гердочка совсем обиделась. Надо взять груши и поехать прокатить ее на извозчике». Что и делалось. Не зная ничего точно, я совершенно явно показывала, что мне хочется видеть их вместе и, кажется, ей об
этом сказала, а может быть, только думала сказать. Как-то в теплый вечер, была луна, в обществе одного знакомого я выслеживала красивого кота с колокольчиком на шее. По-видимому, он заблудился, а мне хотелось его взять с собой. И вдруг появилась Наталья Сергеевна — не то она мепя искала или, встретив, хотела удержать. Она была очень расстроена и беспокойна, но скоро мы расстались.
Приезжал мой отец. Ои пригласил Наталью Сергеевну, Ларионова и Кристи, с которым они дружили, и мы пошли куда-то обедать. Пили наполеоновское вино. «А пирожное надо пойти есть в Пале-ройаль»,— сказал Ларионов. Пирожные отдавали кокосом и вообще этот вечер был не в моем вкусе.
Я уезжала из Франции. Наталья Сергеевна плакала при прощании. Я везла какую-то пуховую подушку от Ларионова его, кажется, тетушке. Из подушки падали иногда пушинки, и какой-то неприятнейший немец устраивал мне из-за этого сцены. У меня сохранились только два письма Михаила Федоровича, но их было больше. Я старалась послать все, что он просил (книги, фото). Вскоре переписка наша прекратилась.
За год до смерти Натальи Сергеевны Гончаровой я отправила через дипломатическую почту на имя нашего посла во Франции Гончаровой и Ларионову письмо и литографию, так как послевоенного адреса их я не знала. Ответа не получила, а через два года умер и Ларионов.
1971 г.