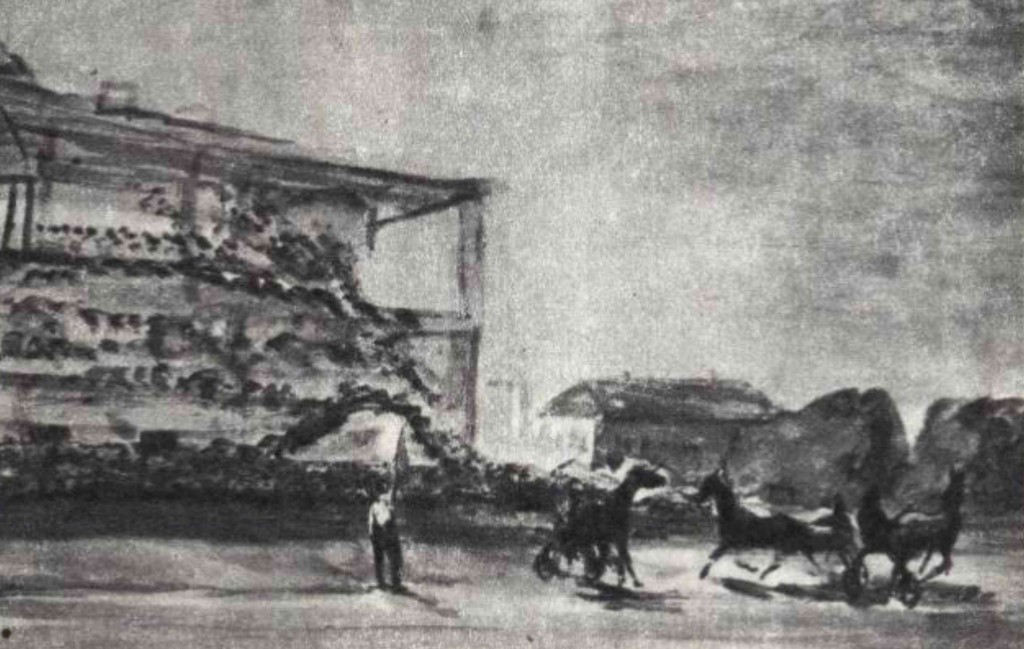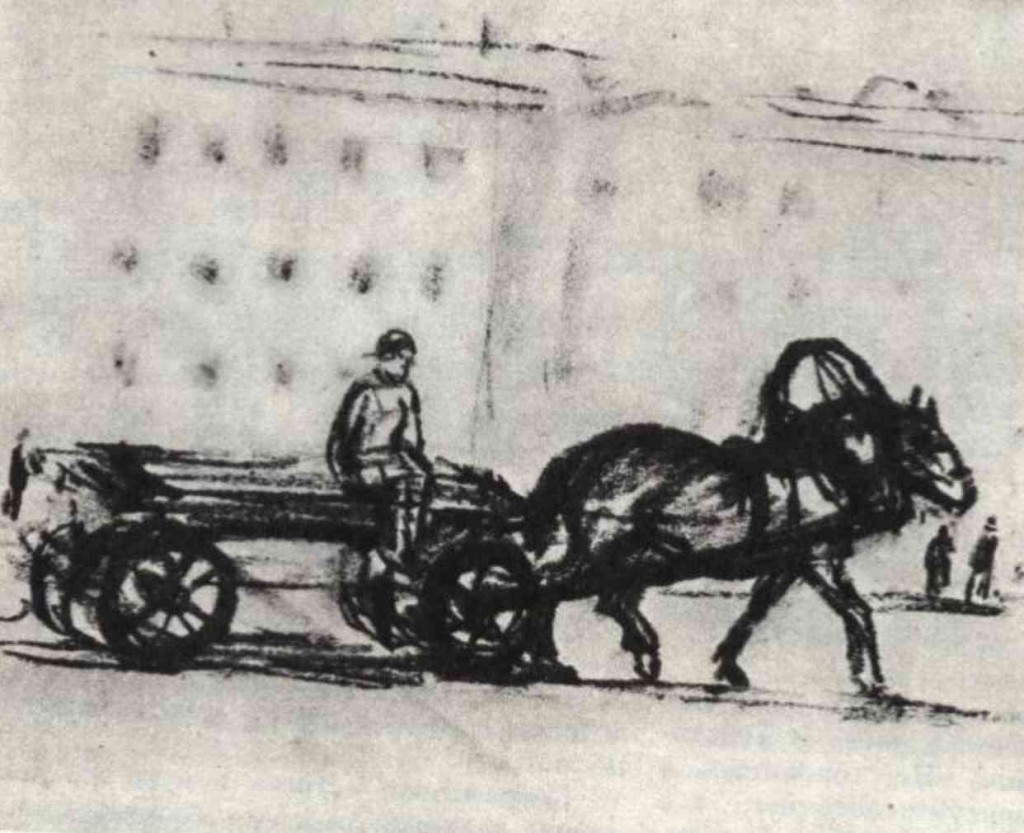Родионов Михаил
Родионов Михаил
 О Михаиле Семеновиче Родионове
О Михаиле Семеновиче Родионове
Из воспоминаний
Я должен сказать, что он был подлинный художник, который войдет в историю нашего советского искусства и как художник, и как учитель <…> Он был настоящий человек с чувством и любовью, очень живой, с кровью в жилах, как сказано у Тютчева.
С.В.Герасимов
Я знал М.С.Родионова в течение двадцати двух его последних лет и хочу о нем рассказать.
Впервые я увидел его в 1934 году, будучи студентом художественного вуза, где он преподавал, и затем общался с ним всю его последующую жизнь, вплоть до его кончины
в 1956 году.
Говорить об искусстве Родионова трудно. Ведь когда мы говорим об искусстве одного художника — это связано также с разговором об искусстве вообще.
Сам же Михаил Семенович не любил пространных рассуждений об искусстве. Он иронизировал: «Искусство тем и ядовито, что о нем очень много можно наговорить».
Когда приходилось, об искусстве он говорил, но всегда очень сдержанно, скупо и просто. Пожалуй, я не смогу сейчас назвать другого художника, который мог бы формулировать свои мысли об искусстве так просто, ясно и понятно, ничего при этом не упрощая, как это делал М.С.Родионов.
Интересно и другое: когда он говорил о своих любимых художниках (чаще других он называл Врубеля и Сезанна; он считал, что эти художники друг другу сродни своим сложным ракурсным пространственным ходом), то сдержанность его как-то исчезала и говорил он уже не так скупо и с внешней силой — в особенности если это бывало дома.
 Опущка леса с дорогой. 1920-е годы.
Опущка леса с дорогой. 1920-е годы.
Как-то после войны художник В.Н.Вакидин приехал летом на дачу к Родионовым и застал его за чтением вслух стихов Пушкина,
которого Михаил Семенович особенно чтил. Вакидин очень удивился подъему и темпераменту Родионова и сказал мне потом: «А ведь я его никогда таким не видел!»
С тех пор прошло много лет.
И вот сегодня по прошествии времени удается легче понять, что основой характера Родионова как личности и было проявление сдержанной силы.
И вот эта простота, эта ясность мышления. а также сдержанность и проявление какой-то силы, доверия к себе, к своему восприятию — не могло все это не отразиться на его искусстве.
Вот об этом я и хочу рассказать.
Но вначале о его педагогической деятельности.
Со студентами он управлялся своеобразно. Если такие художники, как Л.А.Бруни или А.Д.Гончаров, строили свои отношения со студентами на личном обаянии, то Родионов проявлял неприкрытое безразличие к тому, что могут подумать о нем самом. Его, видимо, больше интересовало, насколько он понят и понят ли вообще. Поэтому он обычно пристально всматривался в лицо своего собеседника. Вообще манера общения профессоров и преподавателей со студентами была очень различна. Например, высокий, представительный, в прошлом морской офицер еще «царского флота, П.Я.Павлинов стремился немедленно передать студентам все тайны искусства (часть из которых он все же мог и не знать), а по складу своего характера нетерпеливо ждал сразу же отдачи.
Невысокий, медлительный, Родионов скептически относился к быстрому усвоению, иногда приговаривая, что «гениальных начал много, гениальных концов — нет». Иногда он говорил: «Вот сегодня вы не порисовали, а завтра — завтра будет рисунок завтрашний».
 Церковь за деревьями. 1920-е годы.
Церковь за деревьями. 1920-е годы.
Его обычные занятия со студентами (в схеме, разумеется) выглядели примерно так: он входил в аудиторию, тихо здоровался, чтобы не отвлекать, и еще на подходе к студенческому мольберту начинал похваливать. сразу же добиваясь этим предельного внимания.
Разглядывая рисунок и проницательно вглядываясь в лицо студента, он говорил, что дело идет своим чередом и своим порядком, что все это очень неплохо. «Вот, например, здесь и в особенности вот тут».
Постоянно речь его замедлялась, наступали увеличивающиеся паузы, взгляд становился рассеянным, он умолкал, а затем вдруг ясно, просто и очень кратко излагал несколько основополагающих мыслей об искусстве и его задачах. И вновь внимательно смотрел на собеседника, но взгляд его постепенно становился ироническим.
Затем, наглядевшись вдоволь, он начинал сравнивать этот же рисунок с теми задачами искусства, которые он так просто и хорошо изложил. И тогда оказывалось, что рисунок этот не так уж и хорош: «Вот, например, здесь и в особенности вот тут». Иногда несколько неожиданно наступал вывод. «А сейчас вы возьмите, пожалуйста, резиночку, сотрите все это и начните-ка все сначала! И тогда у вас будет возможность,— говорил он мечтательно,—сделать все это хорошо! Потому что сейчас…» и т. д.
Вообще у Михаила Семеновича противоречивыми. парадоксальными были серьезность и ответственность в изложении задач искусства и некоторая ирония, недоверие к возможности быстрого восприятия.
В его разговорах со студентами он .раскрывал им постепенно и понемногу целый мир пластических представлений, все время
нажимая при этом на эмоциональную сторону.
Однажды был такой случай: позировала обнаженная модель лет семнадцати, я опоздал на занятия, а один студент при моем появлении закричал: «Где ты шатаешься, смотри, как замечательно!» Через несколько часов Михаил Семенович посмотрел его рисунок и очень удивился: «Как — вот это? Вы вспомните свое первое впечатление и чувство в начале. Ведь вы в восторг пришли!»
Он всегда требовал, чтобы в конце работы добиваться первого впечатления и чувства, что и в начале.
В те годы очень азартно дискутировался вопрос о методе преподавания, выискивался какой-то универсальный метод.
Родионов говорил студентам: «Научить нельзя, научиться можно, а наша роль — это более опытный взгляд со стороны».
В разговоре со мной он как-то сказал, что не верит в возможность какого-то универсального метода преподавания. Человек стоящий, говорил он, сам создает свой метод, и приводил в пример П.И.Львова: «Казалось бы, неразумно начинать рисунок с очень мелкой детали и приходить потом к целому, а у Львова бывали иногда очень хорошие рисунки».
Постепенно и вдумчиво вел свою педагогическую работу Родионов, не веря в быстрый успех, как бы выжидая. Он никогда не хотел иметь своей школы.
Как же ценили его работу студенты и как относился к ней он сам?
Сразу же после его кончины газета «Московский художник» поместила статью, посвященную его памяти. Автор статьи, художник-вхутемасовец К. Эдельштейн писал о том, что никогда Родионов не произносил пламенных призывов к борьбе за рисунок и его освоение, но именно он привил студентам любовь к рисунку.
А сам Родионов?
Приближался 1956 год, ему оставалось жить недолго, но он, уже больной, пришел на капустник в Дом художника на Кузнецком мосту. Капустники того времени, организованные под руководством живописца Дорохова, имели очень большой успех.
Не только все места в зале были заняты, но и в проходах толпились люди, жаждавшие шутки и юмора.
Пока мы шли к своим местам, многие художники здоровались с Михаилом Семеновичем, спрашивали о здоровье, он отвечал. Посмотрев на сидевших и стоявших людей, он задумчиво сказал: «Ведь, в сущности, всех этих людей в то или иное время, в той или иной мере я учил!» Затем, обведя глазами работы, висевшие в зале (экспонировалась какая-то очередная выставка), он добавил: «И вот что из этого получилось!»
Но эта его ирония по отношению к себе никак не вязалась с его разговорами со студентами об искусстве, полными ответственности за каждое высказанное слово, за свое отношение к делу!
Зная Михаила Семеновича много лет, я никогда не видел его в состоянии раздражения, гнева, испуга или уныния — вообще в неуравновешенном состоянии, хотя жизнь поворачивалась иногда и к нему очень сложными своими ракурсами. Видимо, он хорошо владел собой, и мы видели его всегда— входил ли он в студенческую аудиторию, в Союз художников или на вернисаж — в удовлетворенном, довольном состоянии, с неизменным чувством юмора. И создавалось устойчивое впечатление, да так оно и было, что он жил на свете с удовольствием. Это тоже не могло не отразиться на его творчестве.
Что можно сказать о его искусстве? Для нас. людей старшего поколения, Родионов — художник современный, так как мы, будучи молодыми, застали его расцвет. Это—по времени. А по своей художественной форме, по своему творчеству он, конечно, современен и для последующего поколения.
 За этюдом. начало 1920-х годов.
За этюдом. начало 1920-х годов.
Вообще в искусстве понятие о времени своеобразно. В обсуждениях и статьях очень часто ставится вопрос: какие черты нового появились в современном искусстве за последние десять лет? Срок обсуждения берется не в одиннадцать и не в девять лет, а точно в десять! Видимо, полагают, что современное искусство должно себя изжить за десять лет, и стараются выловить новое на одиннадцатом году!
Бывает и так, что художник после своей смерти по времени от нас все отдаляется, а творчеством своим он становится все ближе, и мы, люди другого поколения, вдруг начинаем в нем видеть что-то новое, новые черты. Так что новое в искусстве не приходит механически, через равные промежутки времени.
А между тем со времени кончины М.С.Родионова прошло тридцать долгих лет, прошло сто лет со времени его рождения.
Я помню, как один раз, задумавшись о прошлом, Михаил Семенович мне рассказывал: «В молодости я очень любил Сезанна (я и сейчас его очень люблю) и с остервенением подражал ему и другим французам. Но однажды я подумал: „А что случится, если я проживу всю свою жизнь и окажется, что я всего лишь посредственный художник?» Я подумал и решил, что ничего страшного не случится — будет одним посредственным художником больше, и мне легче стало».
С тех пор он стал работать, доверяя себе, что и сделало его своеобразным художником. Я думаю, что это его рассуждение — пример смелости, которая может проявиться только при доверии к себе, когда художник выражает свое удивление перед миром, свои пристрастия.
В одном из писем к брату Ван Гог так выразил свою программу: «Я хочу оставить по себе какую-то память в форме рисунков или картин, сделанных не для того, чтобы угодить на чей-то вкус, но для того, чтобы выразить искреннее человеческое чувство».
Но ведь эмоционально видеть окружающее может и не художник.
Особенно остро и глубоко видят мир люди в момент личных потрясений, драматических ситуаций.
С.В.Герасимов вспоминал: «Старый крестьянин В.А.Власов перед смертью просил, чтобы его вывели на задний двор — посмотреть на жизнь в последний раз. Пейзаж там был очень скромный, и когда вышли на задний двор — ничего особенного, небольшая усадьба крестьянская, видна река. Его спрашивают: ,,Ты доволен, что тебя вывели?» А он говорит: „Теперь можно умирать»».
Но ведь только художнику дано материализовать восприятие, создать произведение. Ведь только в его распоряжении целый мир постранственно-пластическнх представлений.
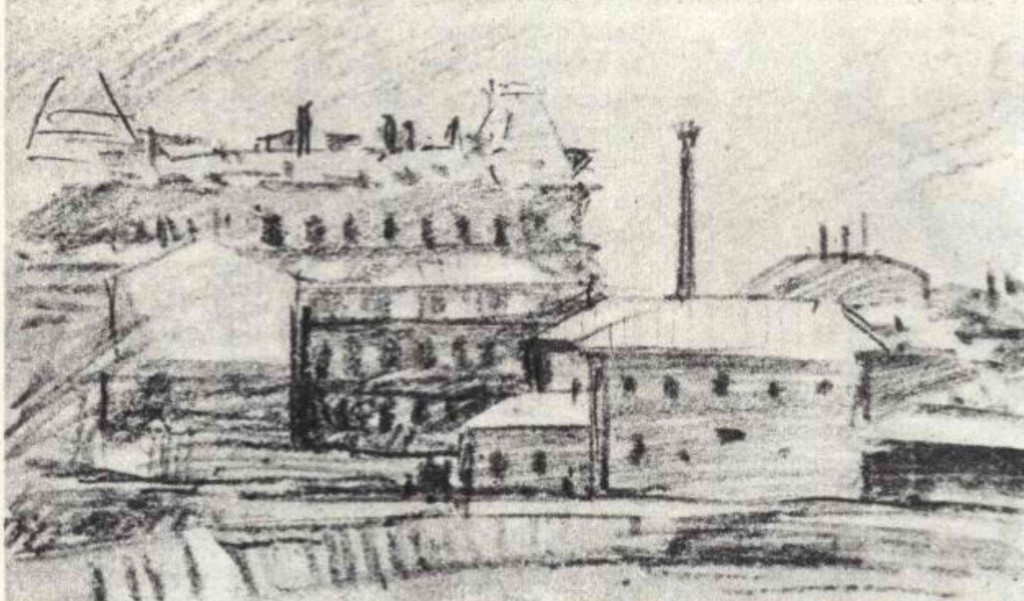 Городской пейзаж с трубой. 1930-е годы.
Городской пейзаж с трубой. 1930-е годы.
Поэтому так удивительно, просто парадоксально, какое огромное количество художников совершенно равнодушны к тому искреннему человеческому чувству, о котором когда-то так взволнованно писал Ван Гог. Мы знаем большие группы художников— энергичных, сильных, работящих людей, которые, завидев чей-либо успех, бросают все силы свои, энергию и осваивают внешние приемы увиденного, приобщаясь к успеху. Таких людей вернее называть мастерами, а не художниками, так как у них очень много искусства и мало творчества.
Знаем мы и таких художников, которые могут что-то чувствовать, но, не имея завоеванного пластического восприятия, не могут себя выразить убедительно.
Знаем мы художников, которые давно не способны что-либо чувствовать, так как восприятие их раздавлено догмой, своей или чужой.
И, наконец, мы знаем художников, которые глубоко эмоционально видят мир и нашли свою форму, чтобы это выразить.
Одним из таких художников и был М.С.Родионов. За свою долгую жизнь он создал свое, своеобразное, глубоко эмоциональное искусство, лишенное каких-либо завитков или украшений.
В своей записной тетради за 1867— 1877 годы Ф.М.Достоевский, полемизируя с аудиторией, не понимающей литературы, писал: «Да и художественно писать тоже нельзя для вас, а надо бездарно и с завитком. Ибо в художественном изложении мысль и цель обнаруживаются твердо, ясно и понятно. А что ясно и понятно, то конечно презирается толпой. Другое дело с завитком и неясность. А мы этого не понимаем, значит тут глубина».
Если принять за истину, что причина манерности в искусстве — это отсутствие личного восприятия при глубокой жажде самоутверждения, то тогда верно и другое: то, что люди с сильным восприятием мира имеют только одну заботу — реализовать свое восприятие с не меньшей силой. А щеголять своим мастерством, заигрывать со зрителем им просто некогда да и не к чему.
Мне не хотелось бы противопоставлять Родионова другим художникам, что иногда делают по отношению к своему учителю. Ведь искусство никогда не начинается и не кончается. И сильных художников в общем-то много. Просто несильных гораздо больше. Силу же Родионова каждый соразмерит сам.
Наш интерес к людям прошлого поколения, сказавшим свое веское слово в искусстве, велик. И вызван он хорошим чувством. Вот с этим хорошим чувством вспоминаем мы Михаила Семеновича Родионова, его жизнь и его искусство.
А.А.Алейников.
Бесшумно входит в аудиторию Михаил Семенович Родионов. Светло-серый костюм, розовое свежее лицо. Никаких признаков художнической небрежности — все в нем чисто, пригнано одно к одному.
Вот он садится около студента и, протерев платком пенсне, смотрит на рисунок, потом на модель…
«А не начать ли вам все сначала?» — слышатся его слова.
А бывало, ладонью своей крепкой руки начнет не спеша кругообразным движением впрессовывать изображение в лист.
Он был сильный и добрый. В те далекие времена нам, еще самонадеянным мальчишкам, он казался флегматичным, приземляющим наши взъерошенные рисунки и идеи. Рядом с теоретизирующим Павлиновым, пылким Истоминым — тихость и немногословие Родионова. Можно было думать, что в душе своей он презирал разговоры об искусстве. Очевидно, заботы его были о другом — общей культуре студентов.
То, что говорил нам Михаил Семенович, всегда было умно, часто окрашено юмором, в основном это были примеры или приметы хорошего стиля.
«Перечтите „Перепелку» Тургенева — вот сделано по-настоящему»,— как-то сказал он нам.
Тогда мне было не до того.— а вот сейчас, когда я стар и пишу воспоминания — полез в шкаф — нету!
Но бывает везение: через день по радио слышу: «Такой-то заслуженный артист будет читать „Перепелку»»…
И вот ночью — сижу и слушаю эту по-славянски трогательную историю — все современно, даже злободневно! Классика!
Говор Михаила Семеновича был своеобразен: певуче на «а» с растянутостью слов в конце фразы. Подобно Кутузову (у Толстого) он нам твердил: «Не торопитесь в искусство — пока порисуйте поточнее… все еще впереди, все еще будет, будет». Говорилось это словно между прочим, без охоты внедрять свои мысли. Сказывался большой педагогический опыт — Михаил Семенович преподавал еще во Вхутемасе и Вхутеине.
Все сделанное им отличается устойчивым мастерством и вкусом, отработанным до простоты.
Запоминаются его деревья, дороги, плоскости земли российской и Ферганской долины и целая галерея портретов современников, увиденных зорко и проницательно. Это официальные и полуофициальные фигуры и ряд интимных изображений знакомых и друзей. Смотрю на них и чувствую то время.
В те годы в коридорах мастерских на Верхней Масловке вы могли столкнуться с восточным человеком в длиннополой шинели— словно вышедшим из многочисленных тогда картин… Натурщика даже побаивались, так был похож.
Портреты у Михаила Семеновича сделаны по-разному: точно работают детали — у кого сапоги, у кого глаза и губы, выражение недоумения на молодых лицах, озабоченности— у взрослых, грим возле усталых глаз актрисы и многое другое, если внимательно посмотреть.
Современная острота и в то же время давние традиции парсун крепостных мастеров.
Михаил Семенович прекрасно чувствовал материал: сочность и суховатость литографских карандашей, звучание краски. Острое чувство материала делало монументальным все сделанное им — и фрески, и рисунки для «Мурзилки». На выставке 1958 года производила сильное впечатление живопись маслом, особенно последних десятилетий.
Досадно, что его живопись не была достаточно понята и поддержана, может быть, оттого, что резко отличалась от окружающей— была без непременной декоративности московской школы, притом начисто лишенная музейной мути. В холодноватой серо-голубой гамме, светлая и живая, она была значительно тоньше, чутче, чем его рисунки (редко встречается такое). В ней не было излишнего стремления к пластической окончательности (что часто свойственно его графике)
Многие наши художники известны не лучшими своими работами — очевидно, сказываются вкусы общества. Срабатывает и механическое деление художников на «секции». Это обесцвечивающее административное изобретение и поныне здравствует, более того—крепчает. И Михаил Семенович ушел в так называемую «станковую графику». Тонкий живописец был загорожен рисовальщиком, эстампистом. силуэтами лошадок.
Что-то в нем было общее с красивыми манифестами «Маковца» и «4-х искусств». Существенней всего в этих «кредо» было желание ощутить свои корни в народе, подоснову. (Почему-то нас отсчитывают обычно от передвижников, а мы начались много раньше.)
Вспоминаю его слова, сказанные по разным поводам в разные годы.
«Какой замечательный художник Кры-мов! Пишет крыши, а выходит при-ро-да».
«От импрессионизма никуда не уйдешь, как от смерти».
«Посмотрите, очень неплох Ходовецкий».
«Какая скверная живопись: слишком кругло, слишком красно, слишком сине».
«Лучше рисовать, смотря на портретируемого снизу, чем сверху».
«Хорошо вы рисуете цилиндры — а вот попробуйте кепочку простую нарисовать».
«Конечно, Петр Соколов — чудесный художник, но его отец — еще выше». (Т.Ф.Соколов— акварелист, известный своими женскими портретами. Сын назвал его учеником Левицкого.)
«Да потушуйте вы, потушуйте,— оскоромьтесь».
На просмотре работ: о работах одного художника я, не утерпев, сказал: «Слишком французисто». Михаил Семенович возразил: «Ну, это вы слишком по существу».
Стоим перед скульптурой (закованный в латы рыцарь—слепок под бронзу). Вокруг тихо, тихо…
«А глаза у него голубые,— неожиданно говорит Михаил Семенович,— и усы пшеничного цвета».
Взглянул я — и точно!
Если будете в итальянском дворике Музея изобразительных искусств, посмотрите в лицо короля Артура работы Фишера Старшего.
Одна из последних встреч с Михаилом Семеновичем: он с папкой под мышкой идет в редакцию.
«Вот иду показывать свои картинки редакторше. Она молодая девочка — и строгая,— может, будут поправки — поправлю»,— смиренно заключает художник.
Кузнецов, Павлинов, Родионов, Львов, Герасимов, Фаворский, Истомин…
Неожиданно, один за другим, обрушиваются на нас столетние юбилеи наших учителей. Чем дальше уходят в прошлое годы ученья у них—тем ярче значение гражданского и художнического подвига этих художников. Как драгоценность передавали они богатство культуры ребятам, съехавшимся с окраин страны.
Нас не покидает чувство признательности, но живет и чувство тревоги — на высоте ли мы, их наследники?
Это тревожит нас еще и оттого, что ныне толпы зрителей стоят в очереди на выставки сомнительного качества, а залы с работами больших мастеров пустуют…
Все зовет к еще большей, более активной работе!
Ю.Д.Коровин
Относительно Михаила Семеновича хочется сказать, что есть очень правдивые художники, но совершенно не музыкальные, а есть музыкальные и ритмичные художники, и очень неправдивые. У Михаила Семеновича это очень крепко соединено. У него рисунок честный, пунктуальный и совершенно правдивый, и в то же время это рисунок музыкальный и ритмичный. Во всех его пейзажах ничего как будто не отмечено, чуть-чуть где-то намечено дерево, как земля относится к небу, как все это строится. И все они страшно лаконичны и выразительны, а это особенно трогает в пейзаже.
В иллюстрации Толстой — это шедевр! Толстого иллюстрировать страшно трудно, но он сделал замечательную книгу и замечательные иллюстрации. Они страшно простые и страшно выразительны и в то же время многое рассказывают. Разные моменты — и с девочкой, и с черкесом, и с татарами разговор—очень здорово охарактеризованы. Мне нравится «Медный всадник», но «Кавказский пленник» Толстого — больше. Там выражен Пушкин, но делать Толстого труднее, чем Пушкина. У Толстого все рассказано страшно объективно. Мне всегда кажется, что Толстой спорил с пушкинским «Кавказским , на который ответить в иллюстрации было чрезвычайно трудно, но Михаил Семенович ответил замечательно. Он был художником <…> Он всегда говорил о силуэте, о лепке, и у него в портретах и пейзажах все это ощущается и выразительно. Он интересовался монументальной живописью и в ней сделал интересные вещи < …> Он работал как монументалист в группе со Львом Александровичем Бруни, где был и я, и я очень счастлив, что мне пришлось работать с Михаилом Семеновичем.
В.Фаворский
Чуткое, внимательное отношение к окружающему миру, нежная любовь к родной природе в ее самом обычном, будничном и в то же время поэтическом обличье, какой она открывалась художнику среди широких полей среднерусской полосы, на плоских берегах Ильмень-озера, в кудрявой долине Истры; острая наблюдательность и глубокое понимание человеческого характера, нашедшие себе выражение в его превосходных портретах; ясный и трезвый ум, сквозящий в крепком композиционном строе; легкая ирония. поблескивающая в иных набросках; большая органическая культура, тесно сроднившая его с великими классиками русской литературы: Пушкиным. Тургеневым. Толстым, которых он так тонко интерпретировал; отвращение ко всякой позе, ко всякой шумихе; стремление к простоте и точности, известная медлительность и осторожность — все эти качества воссоздают портрет Михаила Семеновича, каким мы его знали и любили.
Очень хорош его автопортрет (рисунок) в халате и шапочке, где он так похож на естествоиспытателя или врача, старательно изучающего тайны природы. Природа всегда была его опорой, его словарем. Без внимательного рисования с натуры он не сделал ни одной композиции, ни одной маленькой иллюстрации, так сильно стремился он к точности и так ненавидел приблизительность и неясность. Иллюстрациям к «Кавказскому пленнику» предшествовала поездка в Дагестан, «Медному всаднику» — поездка в Ленинград и т. д. Точное знание материала, подкрепленное непосредственной встречей с природой, дает его образам такую убедительность, которой не найдешь во многих блестящих иллюстрациях, уходящих корнями в творчество Петра Соколова, Серова и других мастеров прошлого < …>
С большим удовольствием я вспоминаю занятия по рисунку с Михаилом Семеновичем во Вхутеине, где он преподавал на основном отделении и на графическом факультете.
< …> Существовало еще одно обстоятельство, сблизившее меня с Михаилом Семеновичем: это неистощимая страсть к лошадям, в которых Михаил Семенович разбирался как знаток, как специалист по коневодству, и рисовал этих прекрасных животных блестяще, полностью опровергнув теорию И.Митурича, утверждавшего, что нельзя хорошо рисовать то, что слишком хорошо знаешь. < …>
Из мастеров прошлого его восхищал А.Иванов. Из современников он, кроме В.Фаворского и Л.Бруни. больше других любил М.Сарьяна и особенно Н.Крымова. Надо сказать, что, чуждый всякого сектанства, Михаил Семенович с радостью отмечал хорошее и правдивое у самых различных мастеров. <…>
К.В.Эдельштейн
В его разговорах со студентами он .раскрывал им постепенно и понемногу целый мир пластических представлений, все время