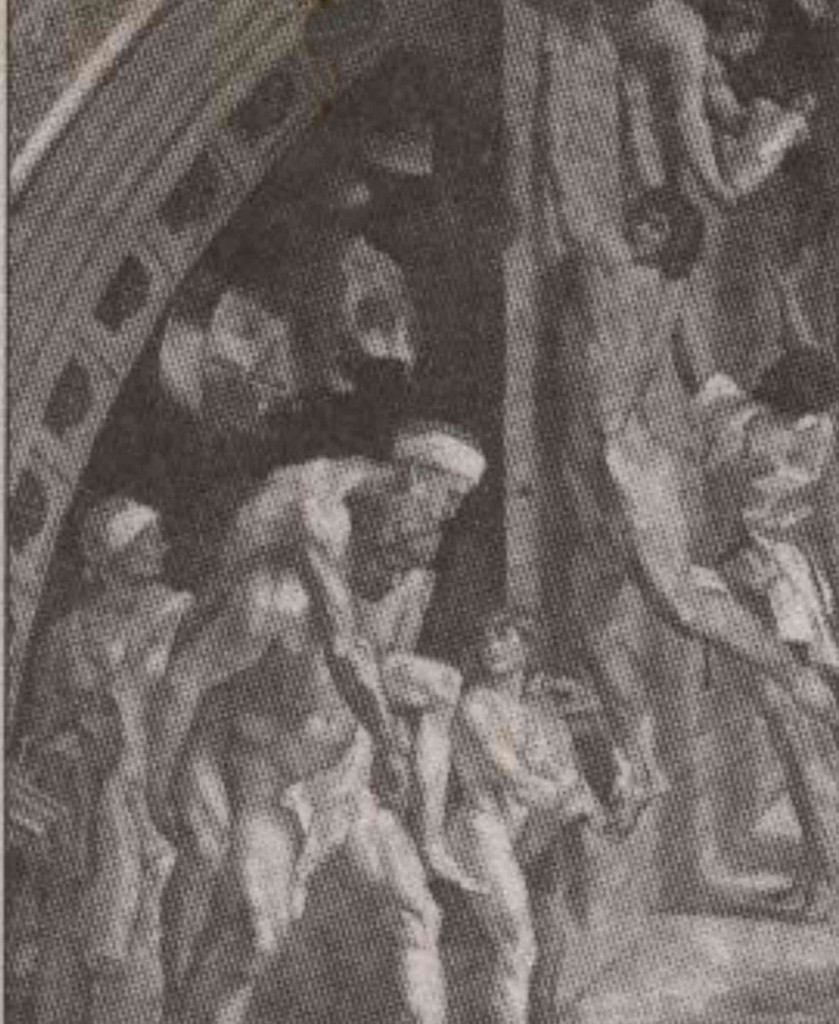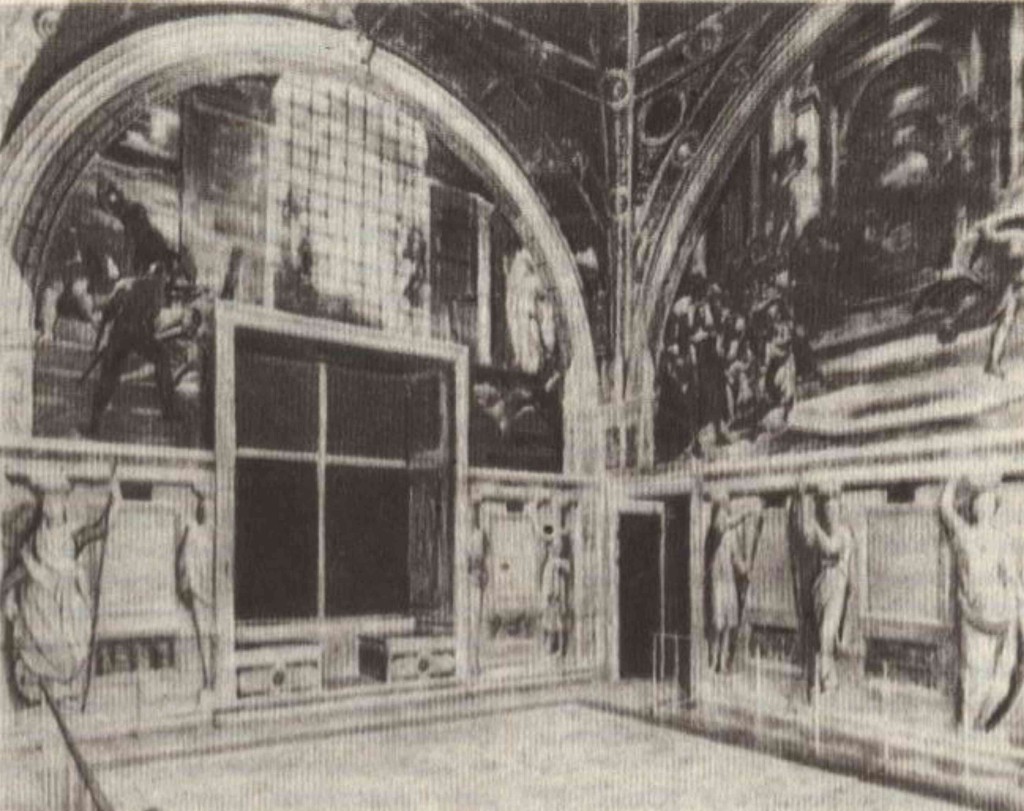Рафаэль Санти
Рафаэль Санти
Cоединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации вот задача искусства в настоящее время».
Александр Иванов
Мудрые ученые открыли, что с незапамятных времен сквозь всю нашу планету Земля проносятся мириады таинственных звездных скитальцев — крошечных, невидимых нейтрино. Вот сейчас вы развернули страницы книги или журнала, и сквозь эти страницы (как, впрочем, и сквозь вас самих) проскользнули триллионы нейтрино. Бесшумно, неуловимо, незаметно. Пролетели и, проскочив недра Земли, вновь ушли в Космос. Эти частицы — дети галактик.
Задумывались ли вы, что совершенно вопреки нашей воле и столь же незаметно и неслышно сквозь душу каждого человека с поры юности и до старости проносятся волшебные частицы искусства, рожденного земными звездами — гениальными поэтами, композиторами, художниками… Вы могли лишь однажды прикоснуться к красоте, услыхать музыку Баха, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, прочитать стихи Гете, Байрона, Пушкина, Блока, увидеть творения Эль Греко, Рембрандта, Рублева, Александра Иванова — и невольно (так устроен почти любой человек) след от этого касания останется на всю жизнь. Конечно, от любого индивидуума зависит, насколько он захочет углубляться в мир искусства, насколько он будет увлечен и пленен им, но влияние на его сердце даже от одного прикосновения к прекрасному неизгладимо.
Вот почему род человеческий бережно хранит имена тех великих мастеров, которые в своих созданиях воспевали добро, свет и заставляли человека гордиться тем, что он Человек. Ибо творчество больших художников всегда отличало ощущение гармонии, сокрытой в самом бытии людей, в природе, окружающей их, в стремлении большинства землян к счастью, миру.
Пятьсот весен расцвело. Пять веков в назначенное время наступало лето, а потом желтели листья и приходила осень. Позже брала верх зима и снова и снова уступала дорогу весне. Полтысячи лет сменялись поколения, неспешно переворачивались страницы летописи планеты. И, несмотря на это неотвратимое круговращение, смену событий и поколений, род людской свято помнил, что в апреле 1483 года в маленьком итальянском городке Урбино появился на свет художник, воспевший человека и создавший картины, являющие нам мир пленительный и непреходящий, оставивший всем образ Матери — любящей и страдающей, чудесный и незабываемый. Тысячи мастеров, больших и малых, писали мадонн, но мадонны Рафаэля — верх совершенства. Безумно трудно писать о таком художнике, которому посвящены тысячи книг, репродукции с картин которого висят на стенах многих домов, а оригиналы, созданные им, начиная с крошечных рисунков или эскизов и кончая портретами или картинами, являются украшением и гордостью лучших музеев мира. Слишком велика громада славы и, что самое сложное, назойлив, неотразим стереотип, набор легенд и домыслов, начатый еще при жизни мастера и доходящий до наших дней. Тем бесценнее встречи с картинами художника. Они-то, эти немые свидетели, рассказывают иногда значительно больше, правдивее и точнее, чем иные толстенные монографии и романы.
В чем феномен легендарной известности Рафаэля? Почему он почти пять веков неоспоримо, несмотря на яростные нападки, является признанным лидером Высокого Ренессанса, причем его значение как художника стало поистине вселенским, далеко превысив рамки великолепной итальянской живописи? Как ни странно, именно в оценке его роли в мировом искусстве столкнулись наиболее неистово апологеты формализма в начале XX века и приверженцы реалистической школы. В чем же секрет этого магнетического влияния, в чем совершенство его пластики? Ведь за прошедшие четыре с лишним столетия мировое искусство дало человечеству такие шедевры живописи, раскрыло таких мастеров колорита, композиций — невероятных по силе и экспрессии, что внешне весьма благозвучные, чтобы не сказать простые, по доступности изобразительного языка картины Рафаэля, естественно, могли «устареть», показаться «старомодными». Однако этого не произошло. Ибо ныне, как никогда, светозарна и триумфальна популярность его творений. И что особенно любопытно, признательность рода людского к этому гениальному живописцу год от года растет вопреки всем заклинаниям модернистов.
Почему?
Искусство Рафаэля потрясает прежде всего глубиной и гуманизмом, полным отсутствием внешних эффектов, какой-то попыткой удивить или поразить зрителя. Он, как никто, сумел соединить в своих созданиях неподражаемое умение и мастерство рисунка и живописи с ясным и полнозвучным мировидением. Художник открыто признается в своих произведениях в любви к жизни, в преклонении перед красотой человека. Его полотна простосердечны, иногда даже могут показаться наивными в. своей открытости, когда живописец, не мудрствуя лукаво, простодушно рассказывает о беспредельной признательности за данную ему радость земного бытия, ощущение прелести природы. Рафаэль вдохновенно выразил в своих мадоннах удивительный мир тишины, покоя, сердечной щедрости. Вот почему в наш грохочущий машинный век, наполненный до отказа слепящими огнями, вы-сверками, оглушающими звуками, стремительным, уже даже не земным, а космическим движением, когда человеческая плоть, зрение, слух уже порою не выдерживают такого напора анилиновой яркости и шума, так необходим, духовно надобен мир Рафаэля.
К Рафаэлю, может быть, как к никому, так прямо обращены слова Ньютона: «Я никогда бы не был Ньютоном, если бы не стоял на плечах гигантов». И действительно, будто почва культуры Италии эпохи Ренессанса, все творчество крупных художников той поры и прежде всего современников Рафаэля — Леонардо и Микеланджело — как бы Готовило появление гениального живописца, способного обобщить грандиозный опыт, воплотить это наследие, изумительное по глубине проникновения в суть природы и человеческой натуры. Рафаэль сумел сделать это. Смог свершить невероятное: синтезировать эксперименты самых противоположных художников, взяв все из их исканий и создав свою совершенно оригинальную и первичную систему образов, непревзойденную по ясности и поражающую простотой изобразительного языка, доступного любому смертному… В искусстве каждого большого художника заложена тайна. Иначе не может свершиться рождение новой красоты. Здесь в момент какого-то озарения, вызванного бытием живописца, его пониманием и осмыслением времени, накоплением опыта, и происходит тот неуловимый и непредсказуемый пластический «взрыв», схожий с рождением новой звезды. Так, Рафаэль, юный сирота из Урбино, обладавший невероятным темпераментом и силой, скрытыми от окружающих за крайне обаятельной и приветливой внешностью, именно он, этот юнец, одержимый любовью к искусству и, безусловно, неординарным честолюбием, проявляет поистине вулканическую трудоспособность. В истории искусств почти никто не знал такого взлета и успеха, как Рафаэль, достигнутого так скоро и в столь молодые годы. Первые шаги Рафаэля на родине, учеба у Перуджино еще никак не приоткрывают нам истинный размах дарования будущего гиганта Ренессанса. Все созданное им великолепно, но вполне вмещается в привычные рамки развития способного, очень талантливого юноши. Он внимательно изучал, размышлял, сравнивал, копировал, учился. Но штудия не отгораживала его от жизни, и, пожалуй, это отсутствие в нем некоторой замкнутости, некоммуникабельности отличает всю его дальнейшую судьбу.
Семнадцатилетний паренек, безвестный простолюдин, сразу находит свою песнь. Он начинает создавать сюиту мадонн, в которых с откровенной чистотой души выплескивает тоску по рано ушедшей матери, преклонение перед чудом материнства, перед загадочной сутью бытия. И его ранние живописные опыты — эти первые мадонны сегодня показывают нам истинное зеркало души художника и являются непревзойденными шедеврами.
Ныне особенно ясно, как бесценно искусство, рожденное чувством красоты. И как вечна живопись, созданная Леонардо да Винчи или Вермером Делфтским,— совсем маленькие картины, с одной или двумя фигурами, не более… Ведь не в метраже и не в количестве персонажей смысл живописи. Кому, непонятно, что произведения салонной «продукции» в мировой истории культуры, несмотря на огромные форматы картин, искрометный колорит, сотни жестикулирующих фигур, искусно скомпонованных в артистичные мизансцены,— все это, несмотря на былой успех, а порою и высокие гонорары, все же со временем оказывалось пустопорожним хламом и находило свое место в объемистых запасниках музеев, а то и вовсе на свалке. Поэтому с осторожностью надо воспринимать эффектные, «шумные» картины, в них нет главного — музыки прекрасного, а есть лишь грохот и холодный расчет поразить чем-то зрителя. Это прежде всего относится к бесчисленным творениям ложноклассического и псевдоакадемического искусства, которые взывают лишь к любопытству либо дурному вкусу, к беллетристическим понятиям, а не к сердцу и уму. Но так повелось, что именно художники псевдоклассического стиля всегда воспевали Рафаэля, сделав из него чуть ли не идола «академизма». Беда была в том, что иногда большие картины позднего периода, исполненные по его эскизам учениками и являясь лишь декоративным оформлением интерьеров богатых дворцов, были весьма далеки от истинных шедевров урбинца. Рафаэль последних лет жизни, несмотря на высокий класс картин, выпускаемых его «школой», все же иногда несколько холоден и риторичен. К счастью для искусства великого мастера, таких придуманных, натянутых композиций было не так много.
Мадонна Конестабиле. Ок. 1500-1502 годы.
Но вернёмся к его молодости. Ещё не достигший двадцати лет мастер одним лишь порывом души находит выражение всем одолевающим его чувствам в ряде небольших картин, решающих вечную тему — Материнство. Это вполне объяснимо, ибо, оставшись столь рано без матери, он находит выход своей тоске в грезах о детстве, приветливости, светоэарности этой поры жизни. Цикл неповторимых по своей прелести, духовному богатству и какому-то особому лиризму мадонн начинается с нашей эрмитажной «Мадонны Конестабиле» (1500—1502 годы), в которой все обаяние юности, девичий хрупкий образ Марии, чистота воспоминаний детских лет художника, проведенных в Урбино. Далее — «Мадонна в зелени» (1505 год), в которой чувствуется влияние Леонардо, но уже звучит ясная рафаэлевская пластика. Величественная и задумчивая «Мадонна дель Грандука» и «Мадонна с безбородым Иосифом» — обе созданные около 1505 года, и, наконец, ошеломляющая своей ласковой, проясненной гармонией, счастьем «Мадонна с щегленком» (1506 год). Все крепнет и мощнее звучит интонация, придающая этим картинам отличный от всех предыдущих художников пленительный, трепетный стиль, вовсе лишенный какой-либо сухости, литературной заданное™. Словом, вместо принятых канонов иллюстраций к библейским сюжетам Рафаэль предлагает зрителю мир реальный, одухотворенный своими наблюдениями, полный света и добра. Завершает эту сюиту «Прекрасная садовница», в которой Рафаэль окружает группу полным сияния и радости пейзажем. Темы материнства, женственности, идеала красоты сливаются в этой картине, написанной в 1507 году (накануне отъезда в Рим из Флоренции). Рафаэль как бы окончательно находит свое решение библейских тем, оно наполнено раскованным реальным ощущением полноты бытия, этого земного чуда. В его сюите мадонн раннего периода воплощены самые светлые идеалы гуманизма итальянского Ренессанса. Художник обретает свой стиль, впитав лучшие влияния школы Перуджино и великих флорентийцев, он придает своим картинам неожиданную и особо чарующую ясность, понятность, доступность, обретя этими работами заслуженное и широкое признание. Он готов к новым, еще более значительным свершениям.
 Мадонна с безбородым Иосифом. 1506 год.
Мадонна с безбородым Иосифом. 1506 год.
Так за какие-то неполные семь лет юный, начинающий живописец сумел сказать новое слово в вековом жанре мадонн.
В 1508 году в Ватикане появился молодой человек. Ему было двадцать пять лет. Но в Вечный город приехал не просто путешественник, чтобы познакомиться с Римом и его древностями. Ко двору папы прибыл уже известный художник, со звучным и быстро запомнившимся всем именем — Рафаэль. Он привез с собою работы: картины, рисунки, эскизы, но суть посещения Ватикана была совсем не в этом. Папа Юлий II пригласил живописца в Рим по рекомендации своего любимого архитектора Донато Браманте, который был родственником Рафаэля. Говорили, что и герцог урбинский Франческо Мария делла Ровере, будучи племянником всемогущего папы, тоже сыграл здесь некую роль… И вот среди толпы придворных, святейших кардиналов, блистательных вельмож, их прекрасных дам в сверкающих нарядах, усыпанных драгоценными камнями, вдруг возникла скромная фигура стройного, похожего на юношу человека с открытыми, приятными чертами лица. Он был одет скромно, во все черное. Даже бархатный берет был черным. Только тонкая золотая цепочка украшала грудь молодого мастера. Никто не мог предположить, что за какие-то пять лет он станет главой римской школы и создаст фрески, которые составят не только славу Ватикана и увековечат папу Юлия II, но и станут каноническими для целых поколений живописцев классического направления. Рафаэль и его «Стансы» откроют новую страницу в истории искусств как пример удивительно гармонического решения в фресковых росписях.
Никогда не забуду, как, пройдя бесконечные анфилады зал Ватикана, где шедеврам нет числа и, казалось, вся история искусства оставила свои лучшие создания для этого собрания, ошеломленный, уставший от всего увиденного, я вдруг оцепенел, увидев светлую и потрясающую своей юной неувядаемостью грандиозную «Афинскую школу». Изумляло не только просторное и воздушное построение этой росписи, где фигуры знаменитых философов, ученых, зодчих свободно и непринужденно располагались в пространстве. Нет. Удивлял неожиданный колорит фрески. Словно букет, полевых цветов — фиалок, незабудок, васильков — расцвел на стене. Казалось, строгий рисунок, сложные ракурсы — все способствовало монохромному цветовому решению. Но Рафаэль внезапно раскрывает все богатство своего темперамента, и «Афинская школа» на много веков становится эталоном высшего мастерства. Может быть, сотворение этого шедевра монументальной живописи хоть несколько успокоило разбег и творческое вдохновение художника? Нет, не надо забывать, что именно в это же время рядом в Ватикане вечный его могучий соперник, аскет и анахорет Микеланджело Буонарроти расписывал плафон Сикстинской капеллы, и Рафаэль не мог не ответить на колоссальный и титанический рывок Микеланджело к вечности.
Нет. Покоя не было… Ни на минуту не покидало его ощущение незавершенности задуманного. Он продолжает огромную работу по росписи Ватикана. Одна фреска за другой появляются на стенах. В некоторых из них видно влияние грозного искусства Микеланджело. Рафаэль лучше других понимал, что ему не удастся превзойти Буонарроти в темах, насыщенных страстным и яростным движением, которое свойственно трагическому и динамичному искусству Микеланджело. Но желание создать нечто равное или подобную по объему и воздействию роспись не покидало Рафаэля. Это стало его наказанием. Среди шумных приемов папского двора, слушая бесконечные похвалы своих почитателей, ощущая безмерное обожание, принимая восторги сотен и сотен зрителей, ставший признанным Первым живописцем Рима, Рафаэль не знал покоя. Счастье триумфатора было тревожным… Хотя заказы сыпались как из рога изобилия.
Вскоре Рафаэль завёл множество учеников, и всё же его мастерскую осаждали меценаты, каждый считал за честь иметь в своём собрании картин мадонну кисти Рафаэля. Надо заметить, .что мадонны, которых он написал немало до приезда в Рим и которые, по существу, и создали начинающему живописцу такую раннюю славу, были результатом труда и напряжения всех духовных сил юноши. Теперь самому Рафаэлю на это времени не хватало. Одолела суета. Рим сразу втянул урбинца в свой завораживающий и налаженный темп жизни. Вечный город был как бы перекрестком многих дорог, в нем при папском дворе плелись интриги, решались дела, накладывающие отпечаток на бытие миллионов людей.
Но жизнь продолжалась, и одна роспись лучше другой покрывали стены Ватикана. В основе их лежал феноменальный рисунок. Рафаэль был непревзойденным мастером рисунка. Не побоюсь сравнения, но листы Рафаэля с его набросками и эскизами, с обозначенными деталями рук, голов, в сложных ракурсах и поворотах потрясают так же, как детали скульптур античного Парфенона: так совершенны и в то же время чудодейственны и безмерно точны его кроки. Драгоценны рисунки Рафаэля. В них трепещет, бьется его преклонение перед природой, и главное — именно в его рисунках, в их безошибочной артистичности отражен гигантский труд и безмерное напряжение творца.
 Батальная сцена. Ок. 1508 года.
Батальная сцена. Ок. 1508 года.
 Схватка всадника с двумя обнажёнными солдатами. Ок. 1504-1508 годы.
Схватка всадника с двумя обнажёнными солдатами. Ок. 1504-1508 годы.
Яснее всего рисовальщик Рафаэль предстает в гениальных «Стансах». Это идеально построенные фрески. Но, как мне кажется, в отличие от росписей Сикстинской капеллы Микеланджело Рафаэль, может, несколько бесстрастен, хотя и зачаровывает покоем своих композиций. Буонарроти все же заставляет трепетать вашу душу дантевским по силе «Страшным судом». Но каждому свое… Где-то уступчивый Рафаэль в ватикановских «Стансах» слишком был регламентирован заказом, и лишь его природное жизнелюбие иногда прорывается сквозь строгие параметры заранее надуманных аллегорических построений. Но то, что он создал, по-своему прекрасно, хотя, мне думается, если бы Рафаэль написал лишь «Стансы», он никогда бы не был тем Рафаэлем Санти, который по праву увенчивает лаврами славы Высокий Ренессанс. Истинный всечеловеческий гуманизм он проявил, конечно, в последней, написанной им самим картине — «Сикстинская мадонна». Именно в этой композиции ему удалось в отличие от фресок решить истинно драматические человеческие проблемы света и тьмы, добра и зла.
Но об этом позже.
Жизнь Рафаэля в Риме пролетала стремительно. При всей внешне спокойной респектабельности его будни были наполнены до отказа трудом и встречами с десятками сильных мира сего, от святейшего папы до кардиналов, от льстивых поклонников таланта до учеников и помощников. Все сутки были спрессованы во времени и расписаны до минуты. Прославленный художник уже к тридцати годам достиг невиданного (даже в той благословенной для живописцев поре), грандиозного успеха. Личное обаяние, цельность, всегда одержимая направленность к единственной задаче: служению искусству, доставляли ему ни с чем не сравнимое влияние. И грозный Юлий II и позже хитроумный Лев X любили мастера. Оба эти владыки католической церкви близко дружили с ним, считались с его мнением, и естественно, что могущественные кардиналы и вельможи, составлявшие их окружение, несмотря на всю свою гордыню и власть, общались с Рафаэлем и даже где-то в глубине души побаивались этого улыбчивого, но непреклонного, внешне мягкого и ласкового, но своенравного живописца. О Рафаэле можно было с полным правом сказать словами флорентийского князя Козимо Медичи: «Художник — существо небесное, а не вьючный осел».
Казалось, судьба Рафаэля стала безоблачной. Он был удачлив и как будто счастлив, вокруг него курился дым фимиама, художник был захвален и заласкан. Но, как все в мире, это имело второе прочтение. Сила и свежесть натуры Рафаэля, составлявшие сердцевину его гения, незаметно, изо дня в день истрачивались и таяли. Страшнее всего было постоянное общение с людьми неискренними, лживыми, обволакивающими его паутиной
лести, интриг и вовсе не нужными для Рафаэля— строгого и очень сдержанного в личной жизни, безмерно трудолюбивого и направленного постоянно на постижение тайн высшего мастерства. И еще одна немаловажная деталь: несмотря на, казалось бы, всеобщее признание и хвалу, все же Рафаэль был чужаком и простолюдином в светской толпе вельмож и бездельников.
Он был близок с Агостино Кияджи, этим богатейшим меценатом. Его обхаживал кардинал Бибиене, мечтавший выдать за него племянницу, многие, многие власть предержащие хотели видеть рядом с собою блистательного и удачливого маэстро. Но нет ничего страшнее для живописца, да, впрочем, для любого творца, чем круговерть этих сладких до липкости будней с кажущимися феерическими и почти сказочными по легкости развлечениями светской жизни. И Рафаэль, прибывший в Вечный город полный жажды достижения вершин искусства, создав за поразительно короткий срок фрески Ватикана — знаменитые «Стансы», и уже одной «Афинской школой» увековечивший свое имя, был завален бесчисленными, иногда малозначительными заказами, многочасовыми, порою пустыми беседами, застольем и многими, многими, отнимающими силы делами. Так годами постепенно и, может, уже незаметно для самого мастера большинство картин и фресок, начатых по его эскизам и прописанных по деталям им самим, заканчивалось способными, но далеко не гениальными учениками. После смерти Браманте волею судеб он стал главным архитектором Рима, и вдруг вся тяжесть этой огромной ответственности — почетной и высокой, но далекой от живописи окончательно смешала цельность его творческих замыслов и устремлений. Так неумолимый рок создавал препоны художнику Рафаэлю и поощрял успехи Рафаэля — архитектора, придворного, светского человека. И вот тут происходит самое страшное. Сердцевина творческого кредо мастера из Урбино, в основе которой лежали гуманизм, любовь к прекрасному, к гармонии, красоте бытия, наталкивается и разменивается на суетливое и размеренное исполнение отдалённых от его сокровенных желаний обязанностей. Тяжелейший груз риторических, населенных десятками персонажей композиций был бесконечно далек от мира его юности, когда молодой Рафаэль создал неповторимую сюиту мадонн, каждая из которых во всей своей непостижимой красоте была песня чистой и цельной души великого художника, постигавшей все лучшее, что создал в ту пору итальянский Ренессанс.
Это нисколько не означает, что «Стансы» Рафаэля — «Диспута», «Парнас», «Изгнание Гелиодора», «Месса в Больсене» или другие—движение назад в его могучем творчестве. Но эта работа, столь успешная и искрометная по достигнутой славе, может быть, внесла усталость сердца и разрушила храм трепетной души Рафаэля. И если бы не его великолепные портреты, особенно «Портрет Бальтазара Кастильоне», «Папы Юлия II», «Кардинала», «Донны Велаты», «Портрет папы Льва X с кардиналами», где во весь рост встает психолог, мастер и гуманист, мы могли бы вовсе забыть Рафаэля-станковиста. Римские мадонны последних лет, исполняемые по многочисленным и неотступным просьбам могущественных заказчиков, несут на себе следы некоторой риторики и постановочности. В них как будто теряется нить образов его простодушных и милых мадонн раннего периода.
Но Рафаэль есть Рафаэль. И он неотступно стремится добиться своей заветной высоты.
…Представьте себе, ценою каких усилий, скольких людей достигается вершина Гималаев — Эверест. И ведь победитель, покоривший эту грандиозную высоту, обмерзший, задыхающийся, еле живой, находится на ней всего лишь считанные минуты.
А гениальные художники, открывающие новую красоту и побеждающие вершины искусства, должны жить и работать годами на этой страшной высоте. Окруженные врагами, завистниками, неудачами, интригами, а иногда недугами… Как мало бывало друзей у настоящих мастеров. Вот почему так непостижимо трагично и бесконечно жутко незримое публичное одиночество Рафаэля… Не дай бог поскользнуться. Потому так, наверно, ласков, приветлив мастер из Урбино. Он один, как никто, вечно, каждодневно ощущал высоту, предгрозовую атмосферу почти достигнутой, но все же еще не покоренной вершины, о которой грезил. И поэтому, когда читаешь в солидных монографиях, что Рафаэль был счастливчиком, что ему безмерно везло, что он был баловнем судьбы,— это банальность и полное непонимание души истинных художников, поэтов, композиторов, вечно страждущих, ищущих, никогда (пусть скрытно) не удовлетворенных сделанным. И чем больше вчитываешься и вдумываешься в жизнь гениального Рафаэля, тем все очевиднее разделяются декорации и истина его нелегкой, сложной судьбы.
Да, Рафаэль понимал истинную ценность многих заказных работ, исполняемых учениками, но в его душе уже зрела мысль о создании творения, способного еще доказать всю мощь дарования. И он находит силы сломать налаженную суету и сочинить свой Реквием.
Вспомним пушкинского Моцарта с приходом «черного человека», заказавшего ему эту музыку.
Так, где-то около 1515 года Рафаэля посетили в Риме «черные монахи», представители далекого монастыря из глухого городка Пьяченце. Они заказывают ему «Сикстинскую мадонну».
И свершается чудо.
 Сикстинская мадонна. 1516-1519 годы.
Сикстинская мадонна. 1516-1519 годы.
Рафаэль впервые в жизни натягивает на подрамник огромный холст. И собственноручно, без единого прикосновения учеников, пишет свой шедевр. Апофеоз всего своего гигантского творчества. Мать с младенцем. Величайшее творение мира — «Сикстинскую мадонну». И недаром ее название как бы отвечает на титульное обозначение росписей Микеланджело в Сикстинской капелле. Да, это был ответ Буонарроти. В этом полотне Рафаэль синтезировал как бы весь накал, мудрость и красоту Высокого Ренессанса. И не только непостижимая пластика этой композиции, где светотень и лепка формы достигают недосягаемой вершины, превзойдя по мощи выражения самого Леонардо, но трагизм и философская суть картины нисколько не уступают драматизму творений Микеланджело. Да, Рафаэль нашел воплощенный ответ на вопрос, кто же он сам. Или лишь камерный создатель маленький очаровательных мадонн, или творец грандиозных фресок, или великолепный портретист, удививший всех своей виртуозностью?
Нет! — отвечает живописец в «Сикстинской мадонне». Рафаэль — это Рафаэль. Великий мастер синтеза в искусстве. Непревзойденный и единственный. Все, все лучшие качества современников, весь опыт античности, всю глубину философских идей своего времени претворил Рафаэль и воплотил в «Сикстинской мадонне». Это было поистине творение гения. Тридцатитрехлетний мастер, собрав воедино всю духовную и художническую силу, воспользовавшись, казалось, второстепенным заказом, вдруг творит бессмертный шедевр, навечно утвердив свое имя.
Еще более потрясает, что «Сикстинская мадонна» создана в дни безмерной славы Рафаэля, несмотря на то, что он уже был смертельно утомлен. И, однако, подобно гетевскому Фаусту, Рафаэль будто снова обретает вторую юность. Он снова пишет. Нет, не пишет, он словно «выпевает» из самых глубин сердца заветную тему.
Но это не экспромт. Он приходит к решению своей кардинальной картины уже со всем колоссальным опытом компоновки монументальных композиций. Уже сотворена «Афинская школа», ставшая эталоном классической гармонии во всем мировом искусстве. Уже испытано, пережито, глубоко прочувствовано чудотворное влияние глубочайшего мастера Леонардо да Винчи. Уже изучен до предела язык самого Микеланджело Буонарроти…
Но, повторяю, Рафаэль есть Рафаэль!
«Сикстинская мадонна» отражает не только ослепительную технику мастера кисти из Урбино; в это полотно вложена вся мудрость его мировидения. И все же в этой картине прежде всего чарует могущество души, ее человеколюбие. В холсте нет ни загадочного леонардовского «сфуматто», хотя лепка формы безупречна, в картине вы не найдёте ошеломляющих микеланжеловских ракурсов. Всё предельно просто.
Рафаэль оставляет завещание людям. И этот памятник живописи делает его имя поистине нетленным.
«Сикстинская мадонна», пожалуй, самая знаменитая картина мира. И хотя, как и на «Джоконду», на нее пролиты ушаты помоев и грязи досужими формотворцами, от этого две немеркнущие жемчужины нисколько не потускнели.
Иные искусствоведы часто задают вопрос: кто послужил прообразом Марии? И тут вступает в действие оптика, рентген, фотография. Находят, что «Сикстинская мадонна» схожа с «Донной Велатой» («Дамой с покрывалом»). Иные просто утверждают, что Рафаэль был вдохновлен Форнариной, своей последней и беззаветной привязанностью. Однако нельзя не удивиться слепоте многих, многих искусствоведов, не увидевших в Марии мечту Рафаэля. Образ, собранный им из несметных озарений, постигавших душу художника за много лет. Черты лица Марии — синтез, это символ Матери — обобщенный, наполненный состоянием человеческой любви и печали.
Начинать сравнивать разрез глаз, пересчитывать количество ресниц на женских портретах Рафаэля и у Марии в «Сикстинской мадонне», конечно, увлекательное занятие, может быть, близкое к науке, но очень далекое от понимания роли создания этого архиважного для живописца полотна. Рафаэль в «Сикстинской мадонне» написал всю свою судьбу. Он вспоминал Урбино и полустертые в памяти чарующие черты своей матери, перед его мысленным взором проходили сотни милых, добрых женщин, ласкавших своих младенцев. Наконец, и что самое главное, художник в своей мастерской был не один. Рядом с ним, вместе с ним, в каждой клеточке его плоти жило его время. Пора жестокая, непростая, напитанная до краев войнами, скорбью, борьбой света и тьмы. И эта магнетическая сила ощущения эпохи, желание что-то сказать людям, помочь им понять несуразность злобы, уродства, мрака, утвердить победность добра и света двигали кистью Рафаэля…
Простодушно и чуть ошеломленно взирает на Марию Сикст. Он потрясен. Свидетельство его земного могущества — тиара — уже не венчает его лысоватую голову, а стоит скромно в углу. Варвара опустила глаза, задумавшись о суете ‘земной. Лишь две иронические мордашки ангелочков лукаво взирают на сотни людей, толпящихся в зале у картины. Зеленая драпировка раздвинулась, и мы зрим, как к нам шагнула задумчивая, грустная женщина, прижимая к груди дитя. Босоногая, печальная, почти застывшая в своем горе…
Можно удивляться, как Рафаэль сумел сбросить с себя некоторую театральность монументальных росписей, исполнявшихся ранее, и пришел к этой суровой, почти скупой, но поэтому столь разящей простоте.
Но напрасно вы думаете, что мастер хоть на миг забыл весь опыт искусства, созданного до него. Он знал и умел все, поэтому мог писать без натуры любую фигуру, поэтому так волшебно использовал законы контрапосто, открытые художниками Ренессанса. Недаром Леонардо называл музыку сестрой живописи. И недаром контрапосто так близко по смыслу и звучанию законам контрапункта.
«Сикстинская мадонна» поистине симфонична. Переплетение и встреча линий и масс этого холста изумляют своим внутренним ритмом и гармонией. Но самое феноменальное в этом большом полотне — это таинственное умение живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное соответствие, что они служат лишь одному, главному желанию художника — заставить нас глядеть, глядеть неустанно в печальные глаза Марии. Картина Рафаэля необычайно современна. Этические задачи, поставленные мастером, живы и поныне. Они необыкновенно усилены еще и судьбой самой картины. Во время дрезденского восстания в XIX веке русский революционер Михаил Бакунин мечтал поставить «Сикстину» на крепостных стенах, чтобы остановить наступавших врагов… И все знают эпопею спасения «Сикстинской мадонны» советскими воинами во время второй мировой’ войны, вызволившими ее из подземного гитлеровского плена.
Едва ли кто из бывших в Дрездене забудет руины Фрауенкирхе, единственные развалины, оставленные для напоминания потомкам об ужасах войны, о разбитом за одну ночь налетом англо-американских эскадрилий городе, о разбомбленном Цвингере, музее, где много лет жила «Сикстина». Она и сегодня там. Возвращенная и живая. И снова тысячи и тысячи людей толпятся у подножия полотна, неотрывно глядя в глаза Марии и думая о своих судьбах.
…Рафаэль и современность… Это далеко не риторическая фраза. Именно сегодня, когда столь обострены вопросы гуманности и спасения цивилизации, «Сикстинская мадонна», созданная давным-давно, ставит перед миллионами людей несравненную этическую задачу о войне и мире, о спасении самого человечества.
Когда Рафаэль скончался в 1520 году, у его изголовья стояла неоконченная картина «Преображение». Весь Рим пришел прощаться со своим любимцем.
«Сикстинская мадонна» — последний великий шедевр, написанный Рафаэлем в 1516—1519 годах, находился в тот день в далекой церкви на севере Италии, в городке Пьяченце. Весть о смерти знаменитого художника достигла и этих глухих мест. Словно надтреснутый, голос колокола звучал на окраине маленького городка. Низкие серые облака плыли над черепичными крышами. Воздух, сырой и влажный, колыхался от колокольного звона.
Умер Рафаэль…
Но это был лишь только миг истории. Рафаэль окончил земную жизнь и начал вторую. Вечную.
Искусство Рафаэля, славящее человеческое бытие, власть разума, света и добра, бессмертно.
Игорь Долгополов
Самым светлым и радостным художником эпохи Возрождения был Рафаэль Санти из города Урбйно.
Всем своим творчеством Рафаэль говорил: человек должен быть прекрасен у него должно быть красивое и сильное тело, всесторонне развитый ум, добрая и отзывчивая душа. Таких людей изображал Рафаэль в своих картинах, таким человеком был он сам.
Рафаэль родился в 1483г. Первые уроки рисования и живописи он получил у своего отца — художника и поэта Джованни Санти. Семнадцати лет Рафаэль приехал в город Перуджа и стал учеником художника Перуджино. Одна из картин Рафаэля этого времени «Сон рыцаря» (конец ХУ в.) Юноша уснул на распутье. И во сне ему явились две прекрасные женщины: одна , с цветами в руках, олицетворяет Наслаждение, другая, с мечом и книгой, — Доблесть. Которой из них отдаст предпочтение юноша, вступающий в жизнь, какой путь он изберет? Таков глубокий символический смысл картины.
В 1504 г. Рафаэль приехал во Флоренцию — город,где в то время жили и работали величайшие художники Италии Леонардо да Винчи и Микеланджело. Здесь есть у кого учиться. И Рафаэль учится. Учится и работает. Более всего его привлекает в это время образ мадонны с ребенком. Нежной и юной матерью изображает Рафаэль мадонну, он прославляет в ней гармоничного человека, прекрасного душой и телом. Мадонны Рафаэля полны такой прелести, что счастливый владелец одной из этих картин, герцог Тосканский .приобретший свою картину почти через 100 лет после ее создания, никогда не расставался с ней и даже возил с собой в путешествия.(Речь идет о «Мадонне Грандуке»,ок. 1505-1506 ,Галерея Питти, Флоренция.) «Периодом мадонн» называют флорентийский период творчества Рафаэля.
 Женская полуфигура. Ок. 1500-1503 годы.
Женская полуфигура. Ок. 1500-1503 годы.
Написанный Рафаэлем в эти годы автопортрет совершенно естественно входит в галерею прекрасных образов,созданных им: так обаятелен, изящен и приветлив молодой художник, изображенный на картине.
В 1508 г. папа Юлий П вызвал Рафаэля в Рим и одновременно с другими художниками поручил ему роспись станц — парадных залов Ватиканского дворца. Вскоре Юлий П приказал рассчитать всех художников и оставил одного Рафаэля. С 1509 по 1517 г. было расписано три зала, лучший из них «зал Подписи»- станца делла Сеньятура. Каждую из четырех стен этого зала занимает огромная фреска. Это — «Поэзия», «Богословие».»Правосудие» и «Философия»(«Афинская школа»). На фреске «Афинская школа» (I509-I5II) изображен просторный ,залитый солнцем храм. У его входа беседуют знаменитые греческие философы и их ученики. Над ними возвышаются две статуи: Аполлона — бога красоты и Афины — богини мудрости. В светлом проеме арки храма выделяются высокие фигуры двух величайших мыслителей Древней Греции — Аристотеля и Платона.
Создавая образы идеальных, рожденных его творческим вдохновением прекрасных людей, Рафаэль рисовал и портреты современников. Он умел остро передать в портрете характер человека, умел выявить его лучшие черты и сохранить при этом поразительное сходство.
 Портрет папы Юлия II. ок. 1511 года.
Портрет папы Юлия II. ок. 1511 года.
О портрете Юлия II (ок. I5II) младший современник художника историк искусства Вазари говорит:»Он исполнил еще маслом портрет папы Юлия так живо и правдоподобно, что было жутко на него глядеть, словно бы и в самом деле он сидел перед нами живой…»
Умевший так точно передать в портрете неповторимую
внешность, неповторимую духовную жизнь человека, Рафаэль совсем по -другому работал над образами мадонн. Художник говорил, что : рисуя мадонну,он вспоминает всех красавиц,виденных им в жизни.
Обаятельный образ женщины создал Рафаэль в прославленной картине «Сикстинская мадонна»(1515 I5I9) . Она идет по облакам, навстречу своей страшной судьбе,зная, что для счастья людей должна отдать смерти самое дорогое, что есть у нее, сына. Обычный религиозный сюжет превращается в прославление величия человека, способного во имя высшего долга идти навстречу мукам и смерти. Красоте этого подвига соответствует внешняя красота мадонны — это высокая, стройная, сильная женщина, полная женственной прелести.
Рафаэль был не только великим живописцем, но и превосходным архитектором. Он строил дворцы, виллы,церкви, небольшие часовни. В 1514 г. папа Лев X поставил Рафаэля во главе строительства величайшего в мире купольного храма— собора св. Петра. Рафаэль должен был изменить проект, созданный Браманте, и продолжить строительство. «Но в мечтах своих, писал Рафаэль, я думаю о будущем! Я желал бы воскресить чудные Формы античных сооружений…» Он мечтал о «воскрешении Древнего Рима»- титаническом предприятии, достойном художника Возрождения. По раскопкам, обмерам и книгам древнеримского архитектора Витрувия Рафаэль хотел представить себе облик»Вечного города», составить его описание и сделать большую картину.
Смерть прервала эту работу Рафаэля. 6 апреля 1520г., в возрасте 37 лет, он умер. Его похоронили в одном из красивейших зданий Рима — в Пантеоне, который стал усыпальницей великих людей Италии.
Нынешний «культурный» год в России, в отличие от предыдущего французского с легким белорусским акцентом, посвящен двум средиземноморским державам — Испании и Италии. Первая из них давно пожинает лавры, показывая шедевры кз своего главного музея-Предо в Эрмитаже. Вторая поступила, казалось бы, скромнее, открыв фестиваль выставкой одной-единстеенной картины, но этот жест оказался сколь изысканным, столь дипломатичным. Не кто-нибудь из мастеров искусств, а вновь прибывший в Россию посол Италии г-н Антонио Дзаорди Ланди, едва успев приступить к исполнению своей миссии, выдвинул весьма смелую арт-инициативу. По его замыслу, который охотно поддержала давно известная своим пристрастием к итальянской культуре директор ГМИИ имени А.СПушкина Ирина Антонова, на Волхонку привезли один из знаменитых шедевров мирового искусства — «Даму с единорогом». Это полотно Рафаэля, вероятно, уже пять веков хранится в Галерее Боргезе (Рим). Кстати, данный визит можно рассматривать и как ответный жест прославленного римского музея,связанного с ГМИИ имени А.С.Пушкина узами давнего партнерства: недавно именно в Галерее Боргезе экспонировался предмет гордости «пушкинцев» — картина Лукаса Кранаха «Плоды ревности» («Серебряный век»).
 Дама с единорогом. 1505-1506 годы.
Дама с единорогом. 1505-1506 годы.
Вполне закономерно, что этот экскурс начинается с эпохи Ренессанса. Проживший всего 37 лет, однако сделавший очень много, оставив невероятно яркий след в истории искусства, приехавший в Умбрию, а затем и в Тоскану скромным юношей из провинции, даром что происходившим из арт-династии и прошедший обучение у прославленного Перуджино, быстро и, казалось бы, так легко занявший почетное место на звездном небоскпоне той поры. Рафаэль — одна из самых эмблематических фигур Возрождения. Имя его называют в едином ряду
с Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тицианом, а любят этого мастера — по сей день не улепись страсти! — очень пылко или не любят вовсе. Некоторым он кажется холодным, рассудочным, пресыщенным, чрезмерно рациональным… Впечатление, уверена, обманчивое. И столь же двойственное, даже слепо противоречиеое впечатление производит нарядная блондинка почти ангельской внешности, строго и прямо смотрящая на зрителя с его картины: то ли непорочная и смелая дева, сумевшая приручить единорога, дабы предстать аллегорией Целомудрия (по преданию, лишь девственница споообна укротить это грозное мифологическое животное), то ли хитрая и расчетливая невеста из среды флорентийской аристократии, взявшая на руки комнатную собачку, чтобы явиться в наилучшем виде на предсвадебном портрете (тогда подобные изображения заменяли «суженым» личную встречу).
В румяном, круглощеком, по-детски пухлом лице девушки, тем не менее взирающей на мир беострастно, горделиво, без тени улыбки, можно прочесть все что угодно — и покорную готовность следовать судьбе — кстати, предначертанной не Богом, но родными; и твердый, волевой характер не без доли знаменитого тосканского коварства (вспомним французских королев из рода Медичи, тоже посланниц богатой и гордой собой Тосканы)… Отсюда и множество версий по поводу того, кто именно пять веков назад, в 1505 -1506 годах, был запечатлен в образе «Дамы с единорогом» Во всяком случае, загадок вокруг нее не меньше, чем вокруг первой гранд-дамы, совершившей в 1974 году визит в ГМИИ из Лувра, — «Джоконды» или вокруг недавно побывавшей здесь же «Антеи» Пармиджанино. Кстати, «Дама с единорогом» выглядит и своего рода антитезой другой рафаэлевской героине, завораживавшей зрителей в этих стенах лет 15 тому назад, — нежной и хрупкой «Дама под покрывалом» («La Velata»)…
Нередко нынешнею гостью ГМИИ считают ответом молодого Рафаэля на тогда уже нашумевшую в столице Тосканы портрет другой флорентийки — Моны Лизы, чью позу почти повторяет нарядная блондинка. В отличие от Леонардо да Винчи, художник из Урбино усадил свою модель на залитой лучами солнца лоджии в обрамлении колонн, и светлый, сияющий озерно-горный пейзаж за ее спиной заставил историков искусства говорить о рождении нового типа портрета. Изобретен даже термин «озонная живопись» — в противовес знаменитому леонардовскому»сфумато» (смягчение очертаний живописного изображения). На первом из вернисажей, еще до того, как картина была привезена на Волхонку, состоявшемся в Посольстве Италии, директор ГМИИ Ирина Антонова заметила: «Рафаэль проводит волевую атаку другого характера: он опирается на пластическую силу образа, для него огромную роль играет цвет. Я называю эту живопись «озонной» насыщенной кислородом, из-за ее очень высветленного тона, который создает образ чистоты, невинности, женственности и многих других достоинств, которые есть в этой женщине»
Как завороженные, спор двух гениев почти пять веков продолжают историки искусства. Единорог на руках у героини Рафаэля, больше похожий на домашнего зверька, возможно, написан другим художником, но тут версии расходятся. Зато точно установлено, что первоначально здесь было изображение щенка. Больше единодушия по поводу платья юной аристократки, которое украшает кулон с большой жемчужиной — традиционным символом девственности. Скорее всего, перед нами портрет, заказанный по случаю предстоящей свадьбы, но не исключено, что сам Рафаэль пожелал или был вынужден превратить его в аллегорию Целомудрия: помолвка могла расстроиться, жених — умереть…
Впрочем, есть и такая гипотеза: «Дама с единорогом» является портретом Джулии Фарнезе (1474 — 1524), любовницы Папы Римского Александра VI (Родриго Борджиа). Возвышению этой семьи способствовала внебрачная связь красавицы из династии Фарнезе, на чьем фамильном гербе красовался именно еди-
норог. ., Впрочем, и это спорный факт, хотя есть предположение, что Джулия фигурирует в три четверти также на полотне Рафаэля «Преображение Христово».
Чем дальше, тем больше возникает вопросов, превращающих историю картины и разгадку ее тайн в настоящий детектив, а это, как известно, сильно повышает ценность произведения искусства… Вот и судите, почему так моден, но в то же время и труден изысканный жанр «выставка одного шедевра».
Точно неизвестно даже время, когда картина поступила в Галерею Боргезе, но есть версия, что находится она там с самого момента возникновения коллекции, будучи куплена в 1606 году кардиналом Шипионе Березе вместе с грандиозной композицией Рафаэля «Положение во гроб» — этапным произведением, знаменующим начало его римского периода. Правда, в описях коллекции Боргезе наша дама встречается впервые лишь в 1833 году, а к тому времени уже два века девушка была «переодета»: неведомый живописец, закрыв плащом обнаженные плечи, дал ей в руки атрибуты святой Екатерины Александрийской (колесо и пальмовую ветвь), скрыв тем самым фигурку единорога. В такой маскировке, приписываемая мастеру школы Перуджино, она «дожила» до 1935 года, пока реставрация не вернула флорентийке первозданный облик.
Здесь велика заслуга Роберто Лонги -знаменитого искусствоведа, ныне классика, который первым узнал в картине руку Рафаэля, провел большую исследовательскую работу — вначале лишь «бумажную» — и добился научной реставрации доски, на которой написана картина Он же способствовал тому, чтобы впервые произведение живописи прошло «обследование» медицинскими методами — с помощью рентгеновских лучей. Тогда и увидели собачку, единорога, декольте модного платья.
Елена Широян.
«Сикстинская мадонна» Рафаэля — главное сокровище Дрезденской галереи. Возле нее всегда толпа зрителей. Женщину неземной красоты, чистоты и очарования в жизни звали Маргарита Лути. Она была натурщицей, и ее любил Рафаэль. Эта любовь его и убила — в расцвете лет, творческих сил и славы.
«Я нашел свою Психею»
Есть один очень живучий и очень скабрезный миф, будто Рафаэль так много занимался с Маргаритой Лути сексом, что умер от истощения.
В действительности дело было так.
Молодой, но уже известный и очень красивый Рафаэль занимался росписью стен центральной галереи дворца Форнезино в Риме. Он уже написал две фрески: «Три грации» и «Галатея». А вот для третьей — «Амур и Психея» — никак не мог подыскать натурщицу. И однажды, гуляя по парку, он увидел юную, обворожительную, ангелоподобную Маргариту. Рафаэль не был обделен вниманием женщин. Повторюсь — он был так красив и притягателен, что прохожие шеи сворачивали ему вслед.
Его любили лучшие прекрасные дамы того времени. Но он забыл всех, увидев ее. Воскликнул: «Я нашел свою Психею». И попросил 17-летнюю красавицу позировать ему. В конце дня подарил золотое колье. А на следующее утро пришел к ее отцу, хлебопеку, и дал тому несколько золотых, чтобы тот позволил своей дочери работать у него. И чем больше он проводил с ней времени, тем больше влюблялся. В конце концов заплатил папаше Лути три тысячи золотых и увез любимую в Рим.
Первые измены.
В Риме Рафаэль приставил к ней кучу слуг, осыпал подарками и нарядами. Маргарита капризничала, требуя еще больше и больше внимания и нарядов. Она просто-таки взяла Рафаэля в плен! У него не оставалось времени на работу, а тем временем заказчик, знатный вельможа Агостино Чиги, настоятельно потребовал закончить работы. Он выделил влюбленным в своем дворце отдельную комнату, только чтобы Рафаэль поторопился.
К дворцу тем временем причалил бывший жених Маргариты пастух Томазо. Он послал ей разъяренное письмо с угрозами. Девушка обратилась за помощью к вельможе, попросила его не просто осудить пыл парня, а заточить его в монастырь. Чиги исполнил ее просьбу. В благодарность девица тут же отдалась ему, пока Рафаэль трудился практически в соседнем зале.
Затем она соблазнила молоденького подмастерье Рафаэля. Его ученики узнали об этом и вызвали парнишку на дуэль. Им эта измена показалась оскорбительной. Парень скончался от потери крови. Но «маленькая Форнарина» (так ее называл Рафаэль) даже не задумывалась о последствиях своей любвеобильности. Она уже нашла следующую жертву.
Разбитое сердце мастера
Рафаэль молча смотрел, как она возвращается по уграм навеселе. И ничего не говорил. Он так страдал, что утром не всегда мог встать с постели. Похудел, почти не ел. Врачи поставили диагноз «резкое истощение организма». Он продолжал писать Форнарину в качестве модели для своих картин. Он знал о ее изменах. Знал, что она стала одной из самых распутных куртизанок Рима. Пытался ее исправить, ждал, что она одумается, изменится, что его любовь победит. Но измученное сердце мастера не выдержало. Оно остановилось в день его рождения — 6 апреля 1520 года. Ему было всего 37 лет. И он мог бы написать еще немало картин.
Его похоронили в Пантеоне, среди самых великих людей Италии. Ученики художника поклялись отомстить Маргарите. И она сбежала к отцу. Там ее встретил пастух Томазо, которому она сломала жизнь — он провел в заточении пять лет. Увидев его, Маргарита не нашла ничего лучше, как оголить плечи и грудь, пытаясь соблазнить бывшего жениха. Но тот бросил в нее горсть земли и ушёл.
Татьяна Огнева.
После смерти тело Иисуса сняли с креста, обмыли его и окутали белыми одеждами. Затем положили в гроб в глубокой пещере. Вход в нее завалили огромными каменными глыбами так, чтобы ни одна живая душа не проникла внутрь. Но уже на следующий день проход в пещеру оказался свободен. А на третий день, когда мать Христа Мария и еще две женщины пришли, чтобы омыть тело, саркофаг оказался пуст. Рядом с ним сидел ангел в облике юноши. Он сказал, что Иисус воскрес и ученики увидят его в городе Галилее.
Воскрешению Христа посвящен праздник Пасхи. Это торжество добра, веры и справедливости.
Никто так, как Рафаэль, не умел радоваться жизни.
Никто не умел так пылко, страстно и самозабвенно любить.
Небольшого росточка, словно только-только подросшее деревце, стройный и тонколикий, он смотрел на окружающий мир «крови и железа» светло и безмятежно. В нем было что-то от эльфа,’ прилетевшего из сказочной страны искусства. Но не было и человека рассудительнее его.
То, что он создавал, как бы не зависело от поворотов колеса времени. Великие фантазии Рафаэля — ватиканские фрески «Афинская школа»,. «Диспут»,
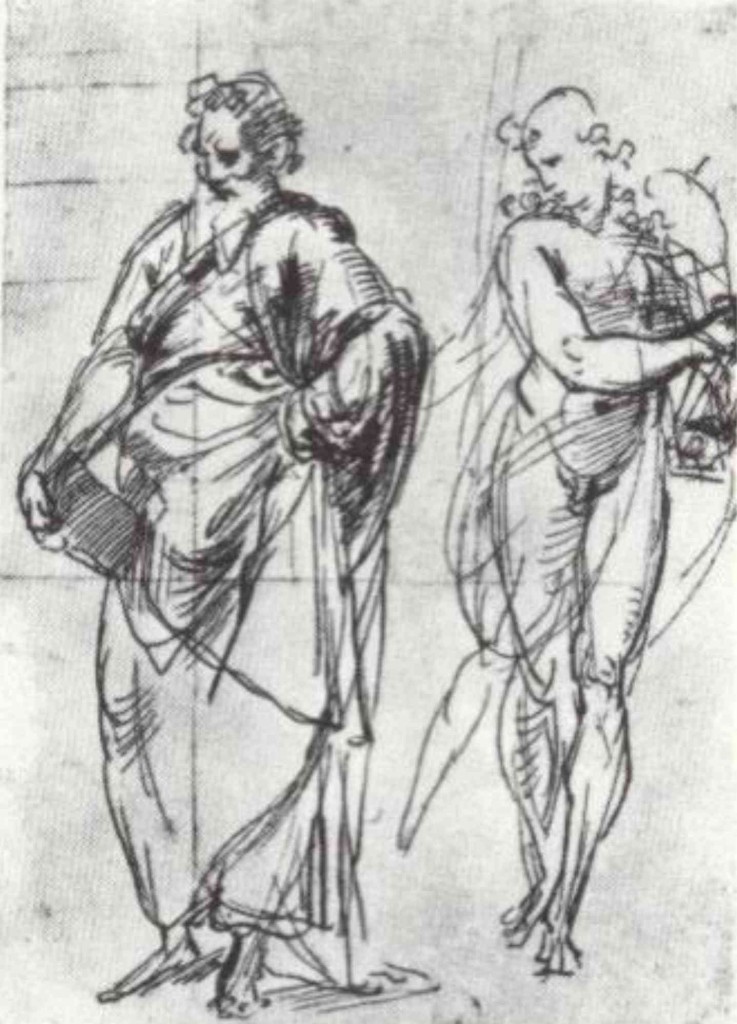 Наброски фигур для фрески «Диспут» 1510-1511 годы.
Наброски фигур для фрески «Диспут» 1510-1511 годы.
 Набросок для центральной фигуры фрески «Парнас». 1509- 1510 годы.
Набросок для центральной фигуры фрески «Парнас». 1509- 1510 годы.
«Парнас» — заставляли подозревать в нем человека многих эпох. Гёте утверждал: Рафаэль «…чувствует, думает и действует, как античный грек!» У его современников имя художника мгновенно вызывало представление об определенном мировосприятии, школе, кодексе эстетической и художественной жизни. Советские солдаты, пол-Европы отшагавшие тяжелейшими дорогами войны, извлекли из замурованного гитлеровцами тоннеля «Сикстинскую мадонну» и восхищенно стояли перед ней. Она пришла издалека, но умела разговаривать на понятном им языке разума и чувств.
…Среди собрания мудрецов («Афинская школа») — старец Платон с лицом Леонардо я молодой еще, крепкий, Аристотель. Возносящий жест Платона и приземляющий — Аристотеля свидетельствуют о непрекращающемся споре. Что есть истина? О том же размышляют Сократ, Гераклит, Эзоп, Пифагор… Но зачем сам Рафаэль в этом сонме мудрецов? Повернул к нам свое красивое, трогательно-доверчивое лицо, грусть в лице, а скорее сожаление, что и мы с вами не можем, подобно ему, поучаствовать в жарком разговоре, сшибке гигантских умов… Бесстрастно наблюдает или принимает чью-то сторону?
«Живопись является философвей»,— говорил Леопардо да Винчи. Для Рафаэля живопись 6ыла философией красоты. В живописи он — великий идеалист и великий реалист одновременно. Потому так равноправно шествуют в «Афинской школе» Платон и Аристотель. Но что красота без любви?
«О, любовь… Ты мать радости, мать мира! — восклицает Рафаэль. — Очисти лучами наши очи, чтобы узрели они невидимое…» Невидимое увидел он в темных задумчивых глазах своей Форнарины. Её образом награждал художник мадонн и святых.
Форнарину узнаем мы и в «Сикстинской мадонне».
«Одной картины я желал быть вечно зритель…» — сказал о ней Пушкин.
Все важные и неотложные дела в Риме Рафаэль бросил, чтобы написать мадонну для церкви св. Сикста в глухой провинции. Словно чувствовал, станет она вершиной его творчества. Утверждают иногда — создание картины связано с памятью о папе Юлии II. Возможно и другое: Рафаэль хотел навсегда, навечно оставить образ любимой в далекой Пьяченце, надежнее защищенной от всевозможных катаклизмов, чем шаткий великолепный Рим. Рафаэль посылал потомкам знамение своей любви. Сочетание идеала и глубоко земного образа.
«Сикстинская мадонна» простодушно — прекрасна и нежна, исполнена тихого тревожащего очарования и грустного провидения. Именно последнее прежде всего воспринял Герцен: «…испугана небывалой судьбой, потеряна… Внутренний мир ее разрушен».. Герцен уловил a ее глазах отчаяние. Все же в них больше милосердия.
В задумчивой, беззащитно-провидящей мадонне есть и порыв, и остановка. И идет она, и парит. Взгляд неуловим: смотрит и на вас, и далеко-далеко;. что-то знает, что-то видит…,
«Сикстинскую мадонну» писал уже признанный мастер мадонн. Так именовали Рафаэля. Его изображения мадонн — песнь песней материнству; земным, добрым и счастливым матерям, исполненным естественной торжественности и возвышающей значительности. Мы знаем — одцу из мадонн oн рисовал с крестьянки, встреченной на улице; другую — со своей любимой.
Энгр говорил, что Рафаэль писал людей добрыми и честными. Портрет графа Бальдассаре Кастильоне называли идеалом целой эпохи.
«Красота изливается как луч солнца на все сотворенные вещи… Можно сказать, что хорошее и красивое некоторым образом одно и то же». Наверное, Рафаэль был согласен с этими словами
Кастильоне, гуманиста и писателя, чье имя в Италии начала XVI века было синонимом обаяния, эрудиции, взыскательного художественного вкуса. Рафаэль знал Кастильоне с юности, они дружили, переписывались, граф. проводил художника в последний путь и написал одну из эпитафий. .
В лице Кастильоне — понимание мира и людей. Приветливость неуловимо соединена с легкой грустью и раздумьем… Перед нами человек и очарованный бытием, и бытие с сожалением проницающий. Есть в нем что-то от мудреца, от ведуна, от доброго мага…
Рафаэль живописал мечту о совершенном человеке, свободном и благородном. На его фресках люди сильной воли и высокого достоинства.
Писали, что «в его фигурах мы воочию видим и трепет живой плоти, и проявление духа, й биение жизни в самом мимолетном ощущении». Таков, к примеру, Анджело Донн — остро реагирующий, умный и горделивый.
 Антонио Дони.
Антонио Дони.
Возвышая своего современника, Рафаэль в то же время дава^. ему точную психологическую характеристику. Жена Анджело — Маддалена Дони и величава, и торжественна, а самоотверженность превозмогает все. Знает она себе цену в очень хочет, чтобы и другие знали: с удовольствием демонстрирует золотую цепь с медальоном, осыпанным бриллиантами, и увесистый жемчужный подвесок. Властно поджаты губы, взгляд неумолимо-снисходителен. Тонкое нежное деревце пейзажа, возможно, намекает на присущие Малдалене изысканные чувства, но еще более оттеняет ее пышущее здоровьем тело.
Рафаэль был в чести у пап. Поговаривали даже, что оди из них собирался одарить его кардинальской шапкой. Но художник болезненно чувствовал свою зависимость: «…что значит не иметь свободы и служить господину». Микеланджело хотел изобразить папу Юлия II с книгой или крестом. «Нужен меч»,— недовольно сказал папа. На одном из портретов Рафаэля — это старик, поражающий кроткой задумчивостью. Зато на втором — тот самый, нуждающийся в мече, — жесткий, презирающий, один из властителей, терзавших лоскутно-княжескую Италию. Заговоры, убийства, войны… Разительно противоречие между стремлением гуманистов к идеалу и полным отсутствием гармонии в окружающей действительности. И тем не менее Рафаэль умел жить счастливо. Он был бесконечно предан своему искусству.
«О, искусство,— писал Вазари,—…могло ты… гордиться своим счастьем, имея живописца, который своими доблестями и своими правами возносил тебя до небес! Рафаэль возносил искусство до небес и спускался на землю его посланцем: созидать прекрасное. Его называли божественным, он был ненасытен и, возможно, временами действительно чувствовал себя всемогущим.
«…в мечтах своих,— признавался он в письме Кастильоне,— я думаю о большем. Я желал бы воскресить чудные формы античных сооружений, и невольно берет сомнение, не будет ли это полетом Икара!»
Целая армия помощников уже с трудом справлялась с размахом его художественных работ. «Добрый гений его натуры» привлекал людей. «Никто более не страдает душою,— замечал Вазари,— когда ему не верят или не понимают, высшим его наслаждением кажется это то, когда он может учить других и сам от других учиться!» Рафаэль талантливо учится у Перуджино, Леонардо, Микеланджело… И направляет своих многочисленных помощников, которые вместе с ним создают фрески, участвуют в строительстве грандиозного собора св. Петра, в археологических раскопках Древнего Рима… Вот сколько гигантских забот взвалил на себя Рафаэль, справедливо опасавшийся участи Икара.
Он выходил на какой-то крайний рубеж своего творчества. Стала расслаиваться, раздваиваться такая единая прежде в своем светлом великолепии жизнь. Еще чудесно светилась там, вверху, но внизу, на земле, стала темнеть, тревожиться, наполняться грозой. Спокойное и возвышенное искусство, сочетающее интеллект, фантазию и изящество, уже не удовлетворяет его. Скрытое, почти умиротворенное прежде напряжение вырывалось. Последним полетом Икара оказалась неоконченная картина «Преображение»: противоречивая, распадающаяся, насыщенная драматизмом и динамикой. Рафаэль, достойно завершавший здание монументально-героического идеала Высокого Возрождения, начинает тосковать на горных и отчетливо ясных вершинах этого здания. Ему уже хочется не только радовать и возносить зрителя, во и будоражить и волновать его…
Весь Рим оплакивал тридцатисемилетнего Рафаэля.
Природа не умерла вместе с художником, как опасался автор эпитафии, она сделала его творчество своей вечной частью.
В. ЛИПАТОВ
Рафаэль — живописец, архитектор, один из титанов Высокого Возрождения, представитель флорентийско-римской школы. Родился в Урбино в семье художника, учился у знаменитого Пьетро Перуджино. В 1504 году Рафаэль приехал во Флоренцию. Здесь он быстро достиг творческой зрелости. Слава Рафаэля стала так велика, что в 1508 году папа Юлий II приглашает его в Рим и дает ответственный заказ: расписать парадные залы Ватиканского дворца. Фрески «Афинская школа». «Диспута» и другие являются вершиной развития искусства Высокого Возрождения. В них претворены в наиболее завершенных образах идеалы гуманизма, прославляющие красоту, свободу и достоинство человека.
Одновременно Рафаэль создает многочисленные портреты и картины.
«Сикстинская мадонна» — одно из самых прославленных произведений мировой живописи. Картина была написана по заказу монастыря святого Сикста в Пьяченцс между 1512 и 1513 годами, в период наивысшего расцвета таланта Рафаэля.
Легкими шагами ступает Мария по облакам, нежно прижимая ребенка. Её прекрасное юное лицо затуманено печалью. Мать предчувствует трагическую судьбу своего сына и все же несет его людям. Недетски задумчиво и скорбно лицо младенца, он также предвидит будущее и готов к нему.
Опустились на колени святые, пораженные нравственным величием материнского подвига. Варвара склоняет голову, папа Сикст II потрясенно взирает на Марию. Все образы картины связаны общностью мыслей и переживаний, и каждый из них раскрывает какую-то новую грань замысла. Взглядами, ритмом плавных движений и контуров, идущих по овалу, они объединены в единое целое. Торжественно и чуть приглушенно звучат голубые, золотистые, зеленые краски, озаренные мягким светом.
.
Рафаэль из ремонтного мусора
Целых пятьдесят лет пролежала в забвении найденная в итальянской Чивитавеккье красивейшая ренессансная фреска. Вскоре после Второй мировой войны ее обнаружили строители в скромном и ветхом жилом доме. А когда на фреску наткнулись во второй раз, сообразили, что стоит привлечь к этой красоте ученых. И не напрасно: искусствоведы сразу опознали работу мастера начала XVI века Работа оказалась самой ранней копией «Изгнания Гелиодора из храма» Рафаэля — той самой ватиканской фрески, которая украшает одну из знаменитых лоджий. Исследовательница творчества Рафаэля Николь Дакоз подробно описала ее и установила авторство гравера Уго да Кампи, который, как и Рафаэль, был родом из Урбино. Оригинал датируют примерно 1511 годом, а копия была выполнена не позже 1527-го. Это сенсационное открытие пришлось как нельзя кстати — о нем было доложено в торжественной обстановке на семинаре, посвященном 500-летию создания фортификационных сооружений порта Чивитавеккья, спроектированных другим гением итальянского Возрождения — Микеланджело Буонаротти.
В Тольятти открылась новая художественная галерея под названием «Антураж». Уникальна она тем, что в её выставочных залах будут представлены подлинники произведений русских и западных скульпторов и художников. Для начала хозяйка салона Ольга Намборская решила удивить своих гостей необычным …Среди собрания мудрецов («Афинская школа») — старец Платон с лицом Леонардо я молодой еще, крепкий, Аристотель. Возносящий жест Платона и приземляющий — Аристотеля свидетельствуют о непрекращающемся споре. Что есть истина? О том же размышляют Сократ, Гераклит, Эзоп, Пифагор… Но зачем сам Рафаэль в этом сонме мудрецов? Повернул к нам свое красивое, трогательно-доверчивое лицо, грусть в лице, а скорее сожаление, что и мы с вами не можем, подобно ему, поучаствовать в жарком разговоре, сшибке гигантских умов… Бесстрастно наблюдает или принимает чьюp-то сторону?открытием галереи. И ей это, надо признаться, удалось.
Приглашенные, войдя в зал, окунались в мир живой музыки
— это пианист, устроившийся подальше от входа, играл на большом белом рояле. Тут же стоял художник, он делал наброски только одному ему известных предметов. В небольших уютных залах галереи на стенах висели картины. Но все они были занавешены белыми покрывалами. Удовлетворить свое любопытство и узнать, что же скрывается под тканью, разрешалось только один раз.
— Каждый наш гость, — объявила Ольга Шамборская,
— должен выбрать себе ту картину, которую он хотел бы открыть. Подойдя к ней, он должен просто сбросить с нее белое покрывало и посмотреть, что за произведение под ним. Искусствоведы, присутствующие здесь, могут рассказать ему об этой картине много интересного. Я вижу в этом символ того, что каждый будет как будто заново открывать для себя мир искусства. А вдруг в том, что вы откроете, будет какой-то знак?
Корреспонденту приглянулась картина, скрытая в самом уголке зала. Белая завеса легко срывается, и под ней оказывается работа Рафаэля Санти «Святое семейство».
 Святое семейство.
Святое семейство.
По мере заполняемости зала открывалось все больше картин. В большинстве своем тут представлены произведения русских и западно-европейских художников 19-20 вв., старинная вышивка. Начало 20 века и эпоха 40-х годов 20 века выставлена в галерее работами таких известных художников, как Надежда Удальцова, Алексей Кравченко, Вера Фаворская, Кукрыниксы, Николай Соколов, Леонид Сойфертис, Борис Вакс, Евгений Игумнов и другие. Альтернативное искусство 60-70-х годов представлено именами Юло Соостера, Клары Калиничевой. Помимо картин в галерее размещена выставка скульптуры, предметов интерьера и мебели. Многие экспонаты можно приобрести, а некоторые нет, так как часть выставки составлена из частных коллекций не только тольяттинцев, но и жителей других городов.
Между прочим, удивлять горожан галерея «Антураж» начала еще задолго до своего открытия. Внимательные тольяттинцы давно уже заметили появление в городе двух рекламных щитов, на которых сначала красовались кокетливые шторки, а потом появились копии картин мировых авторов. Это культурный проект «Без рамок», предполагающий появление широкоформатных репродукций картин на рекламных щитах в Тольятти. С каждым месяцем их планируется открывать все больше и больше, чтобы тем самым познакомить город с большим искусством.
Рафаэль — один из величайших художников всех времен и народов, с наибольшей полнотой и совершенством воплотивший в своем творчестве художественные идеалы итальянского гуманизма эпохи Возрождения, эпохи, которая была, по выражению Ф. Энгельса, величайшим культурным переворотом, пережитым до того человечеством.
Представление о самых светлых идеалах итальянского Возрождения неизменно связывается в нашем сознании с его именем. Певец гармонии, Рафаэль воплотил в своем творчестве возвышенные представления о свободном человеке, о его физическом и духовном совершенстве, о его исключительном месте в окружающем мире.
Художник- прожил короткую жизнь — всего лишь тридцать семь лет. Но за это время он оставил огромное художественное наследие, многое успев сказать людям.
Рафаэль Санти родился в маленьком городке Урбино. Любовь к искусству и первые профессиональные навыки привил ему отец, придворный живописец и поэт. Молодой Рафаэль учится и у других мастеров и завершает обучение в мастерской известного Перуд-жино. Его первые самостоятельные работы, в том числе хранящаяся в Эрмитаже «Мадонна Конестабиле», лиричны, исполнены тонкой поэзии. Настоящее творчество началось во Флоренции, колыбели итальянского Возрождения, куда Рафаэль приехал в 1504 г. и где в течение четырех лет, совершенствуясь, плодотворно творил, прославив свое имя серией мадонн: «Мадонна Грандука», «Мадонна в зелени», «Мадонна со щегленком», «Прекрасная садовница». Более пятнадцати композиций написал он за эти годы, создав в бесконечном разнообразии мотивов пленительный и глубоко лирический образ материнского счастья. Одних этих мадонн, наверное, было бы достаточно, чтобы обессмертить имя Рафаэля,— он вложил в них всю нежность своей души, все волшебство своей кисти.
Когда художнику было 25 лет, его пригласили в Рим, который к 1508 г. становится новым центром итальянского Возрождения. Бурное строительство, огромный размах художественных работ, сопровождающие правление папы Юлия II, привлекли в Вечный город много художников. Среди них Рафаэль вскоре становится одним из первых. Его деятельность в Риме предельно интенсивна и разнообразна.
Грандиозный размах отличает его фресковые росписи в Ватикане, а затем — во многих дворцах и церквах Рима. В фреске «Афинская школа» Рафаэль изобразил собрание философов древнего мира на фоне величественного архитектурного сооружения. В центре стоят Платон и Аристотель, на ступеньках расположился Диоген, в левых группах наверху — спорящий Сократ, а на первом плане — Пифагор, справа же, внизу,— астрономы, математики и сам художник.
Дальнейшее развитие получает тема мадонны с младенцем, увенчавшаяся созданием «Сикстинской мадонны», высшего достижения художественного гения Рафаэля. Спускаясь с облаков, мать бережно несет своего младенца.
У нее чистое девически-наивное лицо. Широко раскрыты темные глаза. В них печаль и тревога. Она предвидит трагическую судьбу своего ребенка и все же несет его людям. Лицо ее сына не по-детски серьезно. Но трагическое предчувствие не определяет настроение картины — оно лишь оттеняет удивительную душевную мягкость матери, красоту ее духовного мира.
«Сикстинская мадонна» была написана для церкви при монастыре святого Сикста в городе Пьяченце — отсюда название картины. В этой церкви она находилась до 1754 г., когда, несмотря на протесты итальянской общественности, была продана монахами в Дрезден, где стала украшением замечательной картинной галереи.
Летом 1955 г. «Сикстинская мадонна» Рафаэля вместе с другими картинами Дрезденской галереи, спасенными от гибели воинами Советской Армии во время Великой Отечественной войны, была временно выставлена в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.
Сотни тысяч советских зрителей имели возможность видеть картину в подлиннике, почувствовать неувядаемую красоту великого творения Рафаэля.
Благородная простота присуща и многочисленным портретам мастера. Рафаэль был разносторонним художником. Он был не только гениальным живописцем, но и талантливым архитектором. В 1514 г. он стал главным руководителем и архитектором при постройке собора святого Петра в Риме, ведал археологическими раскопками и охраной античных памятников, в его мастерской обучалось много учеников. В последние годы он становится признанным главой всей римской художественной школы.
Когда Рафаэль умер, оплакиваемый всем Римом, один из современников художника написал: «Окончилась его первая жизнь; его вторая жизнь в его посмертной славе будет продолжаться вечно в его произведениях…»
Покуда есть на сеете человечество, до тех пор будет и искусство…
В. В. Стасов
Искусство — дорогое достояние и гордость народа, высший предел развития его умственных и нравственных сил…
Ц. А. Кюи
Был я в Дрезденской галерее и видел Мадонну Рафаэля… Что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний! Недаром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре.
В. Г. Белинский.
Пять столетий имя Рафаэля окружено ореолом восхищения и поклонения. Современники, высоко ценившие его талант, назвали художника «божественный Рафаэль». И это не было преувеличением. Как никто другой из живописцев, он умел убедить в правдивости своих образов и в то же время зародить в душе стремление к прекрасному.
Рафаэля принято считать певцом женской красоты. Но женщины, которых мастер вынужден был писать по заказу, далеко не всегда соответствовали его представлениям о прекрасном. А лучше послушаем, что по этому поводу говорил он сам.
«И я скажу Вам,—признается он в письме к другу, писателю Бальдассаре Кастильоне.—что для того, чтобы написать красавицу, мне надо видеть много красавиц… Но ввиду недостатка… в красивых женщинах я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль Имеет ли она какое-либо совершенство, я не знаю, но очень стараюсь его достигнуть».
Рафаэль сам определяет особенность своего творческого метода: реальные наблюдения, дополненные представлением о некоем идеале, подсказанном его собственным воображением Представление о прекрасном художник в той или иной мере выразил во всех своих произведениях, но полнее всего—в изображении мадонн.
Рафаэль написал более двадцати мадонн, начиная с юношеской картины «Мадонна Конестабиле» и кончая «Сикстинской мадонной», которую он создал, будучи уже зрелым мастером, и каждая из них пленительна по-своему. Но. признаться, среди этих прекрасных женщин, олицетворяющих красоту материнства, ни одна, кроме «Сикстинской мадонны», не волнует лично меня так, как «Мадонна Темпи». Я видела эту работу в Мюнхенской Старой Пинакотеке, и она с первого взгляда поразила своей искренностью, редкой простотой и ни с чем не сравнимой радостью.
…Юная светловолосая женщина, прижав к груди сына, идет по зеленому лугу. Такое впечатление, что она либо напевает малышу песенку, либо в порыве нежности шепчет ему какие-то ласковые слова… Приникнув щекой к головке ребенка, она кажется счастливейшей из смертных. Художник трепетно передает всю полноту материнского счастья, способность женщины всем своим существом отдаться этому чувству. А вокруг голубой и прекрасный мир. Безоблачное небо, светлые дали, гладь озера, прозрачный воздух—все вторит гармонии материнства. Лирический настрой всего полотна лишь подчеркивает философскую и общечеловеческую значительность образа матери, идущей с ребенком на руках навстречу жизни.
«Мадонна Темпи» была написана между 1506—1508 годами, когда Рафаэль уже жил во Флоренции, ставшей в Италии очагом культуры и искусства эпохи Возрождения.
А родился художник в 1483 году в Урбино. в семье Джованни Санти—поэта, ювелира и придворного живописца урбинского герцога.
Незадолго до рождения Рафаэля Урбино какое-то время был художественным центром, где по приглашению герцога Федериго да Монтефель-тре работали крупнейшие мастера не только Италии, но и других стран. Первым учителем Рафаэля был отец, а после его смерти—ведущий мастер конца XV—начала XVI века—Пьетро Перуджино. Необыкновенно восприимчивый к самым разным влияниям. Рафаэль вместе с тем умел неколебимо следовать собственным художественным целям. И вскоре превзошел своего учителя.
В 1504 году молодой художник едет во Флоренцию, чтобы увидеть произведения Леонардо да Винчи и Микеланджело. о которых говорит вся Италия. Статуя Давида Микеланджело и «Джоконда» Леонардо потрясли его настолько, что он начинает как бы заново заниматься рисунком и композицией. изучает анатомию, перспективу. Теперь фигуры на его полотнах обретают плоть, объем, движение и свободу расположения в пространстве. Написав несколько картин, в том числе «Мадонну в зелени». «Мадонну-садовницу», «Мадонну со щегленком». «Мадонну Темпи». Рафаэль становится известен во Флоренции главным образом как мастер «мадонн».
В 1508 году по приглашению папы Юлия II. любителя искусств и покровителя художников. Рафаэль навсегда переезжает в Рим. Здесь живёт его земляк, архитектор Браманте. которому поручено строить собор св. Петра, и Микеланджело, начавший роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. В вечный город приезжает ненадолго и Леонардо. С начала XVI века Рим, где живут многие великолепные живописцы, архитекторы, скульпторы, поэты, ученые, становится центром художественной жизни Италии. Почти сразу же по приезде сюда Рафаэль попучает от римского папы ответственный заказ: расписать несколько помещений второго этажа папского дворца в Ватикане. В Станца делла Сеньятура. служившей одновременно библиотекой и кабинетом папы, Рафаэль создал четыре фрески, одна из них называется «Афинская школа», вторая «Парнас», третья—«Диспута», четвертая—«Юриспруденция»… Темы росписей—разные формы духовной деятельности человека: философия. искусство, богословие, законодательство. Горячий поклонник античной культуры, Рафаэль в первой фреске представил зрителям крупнейших ученых и мыслителей древности—Платона. Аристотеля. Пифагора. Диогена, Сократа, Эвклида и многих других, чьи заслуги и деяния составляют гордость человечества. Объединив их в беседующие и спорящие группы, он добился естественной жизненности всей композиции. Надо сказать, что в росписях ватиканских станц наиболее полно раскрылось гениальное дарование Рафаэля-монументалиста. Его кисть, прославляющая величие человеческого разума и жажду познания, становится сильной и мужественной. Ватиканские фрески Рафаэля вместе с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи и сикстинским потолком Микеланджело—вершина монументальной живописи эпохи Возрождения.
Но и увлекшись монументальной живописью, художник не расстался с темой материнской красоты. Больше того, работая над фресками, он обнаружил новое и более глубокое понимание художественных задач портретного жанра. С вдохновением и пюбовью пишет он «Мадонну в кресле». «Мадонну ди Фолиньо» и. наконец, свою непревзойденную «Сикстинскую мадонну», созданную скорей всего в 1513 году для монастыря св. Сикста в городе Пьяченце.
 Мадонна в кресле.
Мадонна в кресле.
По сравнению с нежным лиризмом «Мадонны Темпи». написанной двадцатипятилетним художником. «Сикстинская мадонна» —это завершение гпубоких размышлений Рафаэля о величии Матери, способной не топько на бескорыстную любовь, но и готовой к великой жертвенности. Жизнерадостное и гармоничное мироощущение, долгое время главенствовавшее в творчестве художника, в этой работе, созданной в зрелые годы, дополнилось способностью понимать и передавать трагическое. Можно с уверенностью утверждать, что «Сикстинская мадонна»— вершина художественного гения Рафаэля, итог его творчества. Художнику удалось выразить высшую человечность в образе нежной и скорбной женщины, идущей навстречу своей трагической судьбе
Последние пять лет жизни художник. заваленный заказами палы и римской знати, по существу, лишь руководит своими учениками, выполняющими по его эскизам различные работы.
В 1517 году Рафаэль начал большую алтарную композицию «Преображение». Эта композиция, выполненная при участии его учеников—Джулио Романо и Франческо Пенни, была последней работой мастера, признанного главой всей римской художественной школы.
Любопытны воспоминания о Рафаэле художника и историка искусства XVI века Джорджо Вазари: «…как только наши художники…—пишет он в своих «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»,— начинали какую-нибудь работу совместно с Рафаэлем, так тотчас же они естественно объединялись и пребывали в таком согласии, что при одном виде Рафаэля рассеивалось любое дурное настроение… Такое единение возникало только при нем и уже больше никогда не повторялось. А случалось это потому, что все они в конце концов оказывались побежденными его лаской и его искусством, но больше всего добрым гением его натуры. которая была настолько полна благородства и… любвеобильна, что он видел великую к себе преданность не топько в людях, но и в животных Говорят, что стоило кому-нибудь из знакомых ему живописцев попросить о каком-либо нужном ему рисунке, как он тотчас же бросал свою работу, чтобы помочь товарищу».
Напряженная работа и активная светская жизнь подорвали здоровье великого художника. Возможно, потому лихорадка, которой он забопел. оказалась смертельной. Рафаэль Санти скончался в день своего рождения —шестого апреля 1520 года, тридцати семи лет. в полном расцвете творческих сил, успев уже сделать столько, сколько иному не под силу было бы сделать и за очень долгую жизнь Художник был с великими почестями похоронен в Пантеоне, оплакиваемый всем Римом.
«Окончилась его первая жизнь,— написал в эти печальные дни один из его современников—его вторая жизнь, в его посмертной славе, будет продолжаться вечно…»
Татьяна Седова
«…Я понял, что до того, как увидел Сикстинскую Мадонну, легкомысленно пользовался ужасным по мощи словом — бессмертие — смешивал могучую жизнь некоторых особо великих произведений человека с бессмертием. И, полный преклонения перед Рембрандтом, Бетховеном, Толстым, я понял, что из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум — одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, пока живы люди. Но, может быть если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле,— волки, крысы и медведи, ласточки — будут приходить и прилетать, и смотреть на Мадонну…
На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений — пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летосчисления до наших дней.
На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские князья, на нее глядели чистые девственницы и проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые.
За время существования этой картины создавались и рушились европейские и колониальные империи, возник американский народ, заводы Питсбурга и Детройта, происходили революции, менялся мировой общественный уклад… За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. За это время, формируя познание Вселенной, Галилей написал свой «Диалог», Ньютон «Начала», Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел». За это время углубили душу и украсили жизнь Рембрандт, Гете, Бетховен, Достоевский и Толстой.
Я увидел молодую мать, держащую на руках ребенка.
Как передать прелесть тоненькой, худенькой яблони, родившей первое тяжелое, белолицее яблоко; молодой птицы, выведшей первых птенцов; молодой матери косули… Материнство и беспомощность девочки, почти ребенка.
Эту прелесть после Сикстинской Мадонны нельзя назвать непередаваемой, таинственной.
Рафаэль в своей Мадонне разгласил тайну материнской красоты. Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа — потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души кое-что недоступно сознанию…
Мы знаем о термоядерных реакциях, при которых материя обращается в могучее количество энергии, но мы сегодня не можем еще представить себе иного, обратного процесса — материализации энергии, а здесь духовная сила, материнство кристаллизуется, обращено в кроткую Мадонну.
Красота Мадонны прочно связана с земной жизнью. Она демократична, человечна; она присуща массам людей — желтолицым, косоглазым, горбуньям с длинными бледными носами, чернолицым с курчавыми волосами и толстыми губами, она
всечеловечна. Она душа и зеркало человеческое, и все, кто глядят на Мадонну, видят в ней человеческое — она образ материнской души, и потому красота ее навечно сплетена, слита с той красотой, что таится, неистребимо и глубоко, всюду, где рождается и существует жизнь…
Мне кажется, что эта Мадонна — самое атеистическое выражение жизни, человеческого без участия божества.
Мне мгновеньями казалось, что Мадонна выразила не только человеческое, но и то, что существует в самых широких кругах земной жизни, в мире животных, всюду, где в карих глазах кормящей лошади, коровы, собаки можно угадать, увидеть дивную тень Мадонны.
Еще более земным представляется мне ребенок у нее на руках. Лицо его кажется взрослее, чем лицо матери.
Таким печальным и серьезным взором, устремленным одновременно и вперед, и внутрь себя, можно познавать, видеть судьбу.
Их лица тихи и печальны. Может быть, они видят Голгофский холм и пыльную каменистую дорогу к нему, и безобразный, короткий, тяжелый, неотесанный крест, который ляжет на это плечико, ощущающее сейчас тепло материнской груди…
А сердце сжимается не тревогой, не болью. Какое-то новое, никогда не испытанное чувство — оно человечно, и оно ново, точно вынырнуло из соленой и горькой морской глубины, пришло, и сердце забилось от его необычности и новизны.
И в этом еще одна особенность картины.
Она рождает новое, словно к семи цветам спектра прибавляется неизвестный глазу восьмой цвет.
Почему нет страха в лице матери, и пальцы ее не сплелись вокруг тела сына с такой силой, чтобы смерть не смогла разжать их, почему она не хочет отнять сына у судьбы?
Она протягивает ребенка навстречу судьбе, не прячет свое дитя. И мальчик не прячет лица на груди у матери. Вот, вот он сойдет с ее рук и пойдет навстречу судьбе своими босыми ножками. Как объяснить это, как понять?
Они одно, и они порознь. Вместе видят они, чувствуют и думают, слиты, но все говорит о том, что они отделятся один от другого — не могут не отделиться, что суть их общности, их слитности в том, что они отделятся один от другого.
 Перед Сикстинской мадонной. (Дрезденская галерея)
Перед Сикстинской мадонной. (Дрезденская галерея)
Бывают горькие и тяжелые минуты, когда именно дети поражают взрослых разумностью, спокойствием, примиренностью. Проявляли их и крестьянские дети, погибавшие в голодный, неурожайный год, дети еврейских лавочников и ремесленников во время кишиневского погрома, дети шахтеров, когда вой сирены возвещал обезумевшему поселку о подземном взрыве.
Человеческое в человеке встречает свою судьбу, и для каждой эпохи эта судьба особая, отличная от той, что была в предыдущую эпоху. Общее в этой судьбе то, что она постоянно тяжела…
Но человеческое в человеке продолжало существовать, когда его распинали на крестах и мучили в тюрьмах.
Оно жило в каменоломнях, в пятидесятиградусные морозы на таежных лесозаготовках, в залитых водой окопах под Перемышлем и Верденом. Оно жило в монотонном существовании служащих, в нищете прачек, уборщиц, в их иссушающей и тщетной борьбе с нуждой, в безрадостном труде фабричных работниц.
Мадонна с младенцем на руках — человеческое в человеке,— в этом ее бессмертие.
Наша эпоха, глядя на Сикстинскую Мадонну, угадывает в ней свою судьбу. Каждая эпоха вглядывается в эту женщину с ребенком на руках, и нежное, трогательное и горестное братство возникает между людьми разных поколений, народов, рас, веков. Человек осознает себя, свой крест и вдруг понимает дивную связь времен, связь с живущим сегодня всего, что было и отжило, и всего, что будет.
В. Гроссман
По мнению доктора искусствоведения пpoфессора Дмитрия Масленникова, великий живописец эпохи Возрождения Рафаэль присутствовал при родах. Посмотрите внимательнее на «Сикстинскую мадонну». Ее выражение лица явно писано с натуры. Дело в том, что у женщины при родах лицевые мышцы сокращаются очень характерно, необычно. На лице роженицы возникает особенная мимика — прекрасное, умиротворенное и в то же время страдальческое, тревожное выражение. Именно с таким выражением смотрит на нас с холста Мадонна. Такое из головы не возьмёшь Надо увидеть.
 Сикстинская мадонна. Фрагмент.
Сикстинская мадонна. Фрагмент.
Когда Рафаэль умер, в изголовье гроба, установленного в его мастерской, поместили последнюю картину художника— огромный алтарный образ, на котором он не успел нанести последние мазки. Это было «Преображение», ныне находящееся в Пинакотеке Ватикана.
Необычная судьба предстояла картине. Современники восторгались ею. Крупнейшие авторитеты художественной критики XVI века Паоло Джовио, Франсиско де Ольянда, Джорджо Вазари единодушно называли ее самым совершенным творением Рафаэля. Восхищение картиной разделяло и XVII столетие, и даже знаменитые классицисты XVIII века Винкельман и Менгс вслед за Вазари видели в последней картине Рафаэля «венец всего искусства живописи».
Но уже со второго десятилетия XVIII века начали раздаваться голоса сомнения и критики. Английский искусствовед Джонатан Ричардсон обнаружил в картине нарушение элементарных основ построения всякого художественного произведения. Знаменитый скульптор Фальконе открыто иронизировал по поводу содержащихся в картине несуразностей. Иные только разводили руками, не в силах скрыть недоумения. Во второй половине XIX века тонкий немецкий критик Карл Юсти, глядя на эту картину, уподобил Рафаэля «звезде, которая в недобрый час сошла со своей орбиты». И, странное дело, в то время как Ф. А. Грюйер провозглашал Рафаэля «самым христианским художником, какого когда-либо бог давал миру», Джон Рёскин не сомневался, что «искусство Рафаэля заразило сердца миллионов христиан ядом неверия». А по мнению братьев Гонкуров, рафаэлевское «Преображение» — картина не только не христианская, но дающая католицизму превратное истолкование и искажающая его образами материального мира. Споры вокруг «Преображения» не утихают и поныне, и автор новейшей работы, специально ей посвященной, Герберт фон-Эйнем, хоть и попытался доказать, что это «одно из величайших откровений всего христианского искусства», вместе с тем должен был признать, что перед нами «великая загадка» Чем же вызвано столь резкое расхождение оценок? Как могло получиться, что картина, написанная на сугубо религиозный сюжет, да притом еще как запрестольный образ, оказалась загадочной и даже сомнительной с религиозной точки зрения?
Несколько слов о том, как создавалось «Преображение». Оно было заказано Рафаэлю в самом начале 1517 года для кафедрального собора в Нарбонне (Южная Франция). Заказ исходил от кардинала и вице-канцлере папской курии Джулио Медичи, бывшего в то время также архиепископом нарбоннским (впоследствии он стал папой Клементом VII). Одновременно тот же Медичи сделал заказ и другому художнику — работавшему в Риме венецианцу Себастьяно дель Пьомбо. Очевидно, хитрый кардинал рассчитал, что, разжегши соперничество между двумя художниками,он заставит каждого напрячь все силы и дать максимум того, на что он способен. Можно не сомневаться, для него не было секретом ни то, что Себастьяно пользуется покровительством великого Микеланджело, ни то, что этот последний питает ревнивую неприязнь к Рафаэлю, занявшему исключительное место в тогдашнем искусстве, и в круге внимания папы.Действительно, Микеланджело снабжал венецианца не только советами, но и подготовительными рисунками к картине, а Рафаэль, зная это, говорил, что Микеланджело оказывает ему честь, заставляя соревноваться с ним самим. Рафаэль избрал (видимо, получил от заказчика) темой своей картины преображение Христа, Себастьян дель Пьомбо — воскрешение Христом Лазаря.
Но обратимся к самой картине Рафаэля. СогласноЕвангелию, Христос поднялся вместе с тремя учениками на вершину горы. Ученики уснули, а он сам внезапно преобразился, одежды его засияли невиданной белизной и весь он озарился неземным, божественным светом. Таинственное облако окутало его, и раздался глас возвещавший, что это — сын божий. То же подтвердили явившиеся ветхозаветные пророки Моисей и Илия, вступившие в беседу с Иисусом. Между тем разбуженныепроисходящим апостолы были поражены и гласом с небес и ослепительным светом, и тем неземным обликом, в каком они прежде никогда не видели своего учителя. На картине (размеры ее грандиозны: высота 4,05м, ширина 2,78 м) в самом верху Христос в белых одеждах широко подняв руки, плавно взмывает над землей, окруженный облаком, которое пронизано голубовато-белым клубящимся светом. Чуть ниже, по обеим сторонам его, пророки также воспаряют над землей. Ниже, на плоской вершине горы,— три апостола, распростертые ниц, ослепленные светом, пораженные страхом. Слева, за краем вершины, видны две фигурки юношей, с трепетом что взирающих на совершающуюся мистерию. Несомненно,-это святые, чья память по католическому календарю приходилась на тот же день, что и праздник преображения.
Однако вся сцена преображения занимает только верхнюю (и при этом меньшую!) часть картины. Внизу, у подножия, в густой тени, отбрасываемой священной горой, во мраке наступающей ночи, разыгрывается совсем другое действие.
В левой части, под горой группа апостолов. А из-за правого склона горы на передний план выливается толпа людей. Они ведут к апостолам больного юношу (эпилептика? лунатика? — во всяком случае «одержимого», «бесноватого»). Тело юноши сведено судорогами, голова запрокинута, глаза безумно блуждают, рот раскрыт — он кричит. Отец едва удерживает больного сына; его лицо — воплощенная мука; в глазах, устремленных на апостолов,— предельное отчаяние и последняя надежда. Острым состраданием, мольбой о помощи дышат лица, позы, жесты родственников, людей, сопровождающих больного. В середине, на первом плане коленопреклоненная фигура женщины, видимо матери больного. Обеими руками она указывает на своего охваченного недугом сына; она не молит, она требует помощи.
Лица всех пришедших обращены на апостолов. От них, учеников Христа, люди ждут исцеления. Но апостолы вявном смущении. Одни взволнованы картиной страдания, их лица выражают сочувствие, на лицах других — только праздное любопытство, третьи, не скрывая своей досады, отворачиваются от тяжкого зрелища,— помочь больному они не в силах. Один апостол, правда, раскрыл какую-то толстую книгу, но и в ней, видимо, не нашел рецепта исцеления, а двое других в едином движении подняли левую руку вверх, указывая на вершину горы: их учитель сейчас там, сами же они ничем помочь не могут.
Что же означает эта сцена, и зачем она на картине преображения Христа? Недоумение критиков вполне естественно. Правда, нижняя сцена тоже восходит к священному писанию. В Евангелии от Матфея (гл. 17, ст. 14—21) после рассказа о чудесном преображении Иисуса на горе следует другой эпизод, непосредственно не связанный с предыдущим: пока Христос был на горе, к оставшимся внизу его ученикам отец привел бесноватого сына, прося его исцелить, но апостолы не смогли этого сделать; Христос же, возвратившись, упрекнул их в недостатке веры и легко изгнал из больного злого духа. В Евангеp лии от Луки этот эпизод даже отнесен к следующему дню после преображения (гл. 9, ст. 37—43).
Правоверные искусствоведы утверждают, что Рафаэль ничуть не погрешил против теологии: он только объединил два евангельских эпизода. Но зачем? Неужели Рафаэль не видел, что он, говоря словами Фаль/pконе, «разрезал свою картину и по содержанию, и по композиции на две половины, которые не имеют между собой никакой связи… так что остается непонятным, где же собственно настоящая тема картины»? Да и «соответствие теологии» более чем сомнительно: ведь именно исцеления бесноватого художник как раз и не изобразил!
Двойственность картины настолько чужда высочайшему мастерству композиции, каким владел Рафаэль, и привычной цельности и гармоничности всего его искусства, а бьющая в глаза контрастность двух сцен настолько не согласуется с благочестивой темой произведения, что многие объясняли эту несообразность участием учеников Рафаэля, после смерти мастера «доводивших» неоконченную картину. Однако новейшие исследования при реставрации картины в 1972—1976 годах показали, что помощь эта была лишь частичной и проходила под контролем мастера, а не после его смерти. Об этом же свидетельствует и несомненное художественное единство всего переднего плана. И главное: необычайный замысел картины был не по силам никому из учеников: он несомненно принадлежал самому Рафаэлю.
Как же понять неслыханную противоречивость картины? Если считать, что Рафаэль намеренно противопоставил мистической сцене преображения Христа реальную сцену человеческих несчастий, то благочестивость замысла художника оказывается более чем сомнительной. Это, естественно, никак не могло устроить критиков, стоящих на религиозных позициях, и они избрали другой путь. Не считаясь с очевидными фактами искусства, они стараются во что бы то ни стало «выпрямить» это контрастнейшее творение Рафаэля, уверяя, будто в картине верхняя сцена заслоняет нижнюю, земное растворяется в небесном. Подобные утверждения идут вразрез с тем, что изображено на картине, но правоверные критики твердили это в XIX веке (Я. Буркхардт, К. Юсти), продолжают твердить и в наши дни (О. Бокк фон-Вюльфинген, В. Кельбер, Г. Эйнем, Ф. Манчинелли). При этом они, как правило, не затрудняют себя аргументацией, навязывая художнику угодные им концепции.
Чтобы раскрыть подлинный замысел художника, есть один надежный путь — объективный анализ самого произведения и подготовительных работ к нему, сопоставление его с другими подобными явлениями искусства того времени при непременном учете исторической обстановки, важнейших общественных и идейных движений эпохи. Мы будем стараться идти именно этим путем.
В христианской иконописи тема преображения никогда не давалась одновременно с исцелением бесноватого — только раздельно. Второй сюжет вообще изображался редко, и никогда — как запрестольный образ. И так было не только до Рафаэля. Примечательно: когда Франческо Карото (ок. 1480—1555 гг.) для одного из приделов церкви Сан-Джорджо Маджоре в Вероне почти повторил творение Санти, оно оказалось разделенным на две картины — каждый сюжет отдельно, причем алтарным образом служила только сцена преображения. Точно так же только эту сцену включает и запрестольный образ работы Себастьяно дель Пьомбо в церкви Сан-Пьетро ин Монторио в Риме (там, где прежде стояла картина Рафаэля), писанный венецианцем между 1517 и 1524 годами. Таким образом, позиция церкви в этом вопросе достаточно ясна. Ясно и то, что Рафаэль допустил неслыханную вольность в обращении с священным сюжетом.
В недавнее время К. Оберхубер, тщательно изучив и сопоставив все дошедшие до нас подгpотовительные рисунки мастера к этой картине, неопровержимо доказал, что первоначально Рафаэль собирался писать только тему преображения и ее одну разрабатывал; сцена с бесноватым была присоединена значительно позднее. Почему? Позволим себе прежде обратиться к сцене самого преображения, которая занимает верхнюю треть картины как Акт лучезарного преображения Христа на фоне феерически светящегося облака изображен с исключительным мастерством. Но почему Иисус улетает? Раскинув руки, плавно двигая ногами, он возносится над землей, его одежды развеваются. Вслед за ним возносятся и пророки: те же движения ног, так же развеваемые ветром одежды. Странное «преображение»!
Неортодоксальность передачи евангельского мифа в картине несомненна. Но внимательное рассмотрение убеждает: перед нами глубоко продуманная и великолепно изображенная картина полета. Так что же это — вознесение? И в самом деле, некий флорентиец на основе композиции Рафаэля создал картину «Вознесение» (фреска на стене кладбища Сан-Миниато во Флоренции). Но если Рафаэль изобразил вознесение, то, значит, его Христос уже покидает землю,— какого же исцеления могут ожидать от него люди? Чтобы избежать этого неприятного вопроса, некоторые искусствоведы старались доказать, что на картине Рафаэля Христос не возносится, что подобную «приподнятую» форму преображения можно встретить и на некоторых византийских иконах и отдельных картинах Раннего Возрождения.
Однако эти доводы не выдерживают критики. На византийской мозаичной иконе «Преображение» (Париж, Лувр) Христос действительно изображен слегка приподнятым (силой чуда) над вершиной горы. Но он не летит, не возносится. Пророки же по обеим его сторонам прочно стоят на двух возвышениях вровень с ним.
В «Преображении» Утрехтской псалтири (IX в.), как и в одноименной картине Фра-Анджелико (ок. 1440 года, Флоренция, музей Сан-Марко), Христос и пророки стоят на земле. Точно так же — и в обоих «Преображениях Джованни Беллини (1465 г., Венеция, музей Карреро 1485 г., Неаполь, Национальный музей). На фреске Перуджино (Перуджа, Колледжо дель Камбио) все три фигуры приподняты над землей, но стоят на облачках подушечках: Христос — во весь рост, пророки же коленопреклоненные. Опять-таки никакого подобия полета. Иисус прочно опирается на правую ногу, слегка согнутую,левую,— в позе спокойно стоящего человека. А ведь эта картина писалась «на глазах» юного Рафаэля. Важно также отметить: ни на одной из этих картин Христос не смотрит вверх, в небо; на двух из них он даже скромно опустил очи долу. Только у Рафаэля взор Иисуса устремлен к небесам куда он возносится. Его волосы, как и одежда, подхвачены ветром полета, а не легким веянием парения. Художник выразил свою мысль с предельной ясностью: Христос покидает землю.
Этой недопустимой с религиозной точки зрения вольности не было и у последующих художников: ни один из них не повторил смелого решения Рафаэля. Себастьян дель Пьомбо в упомянутом выше «Преображении» созданном буквально вслед за картиной Рафаэля, изобразил Христа стоящим на земле. Только так изображали eго в одноименных картинах и Тициан, и Савольдо, и Гольбейн-Старший, и молодой Рубенс, чье «Преображение» (1604—1605 гг., Нанси, Музей), писанное по заказу мантуанских иезуитов, создавалось как очевидный противовес творению Рафаэля. В то же время художники, писавшие воскресение или вознесение, нередко прямо’ заимствовали для своей цели фигуру и движение взлетающего Христа из рафаэлевского «Преображения», это сделали Санти ди Тито и Джузеппе Валериано, трудно было найти лучшее изображение устремленного вверх полета. И не удивительно, что уже во второй половине XVI века картину Рафаэля нередко называют «Вознесением».
То, что в рафаэлевском «Преображении» Христово: возносится, улетает с земли, прямо или косвенно признают большинство критиков XIX и XX веков. Более того-один из них, Дж. Меллини, даже подметил, что очертания одежд Христа, вздымающихся у него за спиной, напоминают крыло бабочки, что усиливает впечатление полета. Но как это улетание согласовать с темой преображения? И тем более — с темой исцеления одержимого? Нет, версия о религиозной ортодоксальности картины Рафаэля явно обнаруживает свою несостоятельность. Когда средневековый художник обращался к евангельскому рассказу об исцелении бесноватого, он изображал именно акт чудесного излечения больного. Так, на рисунке в одном Евангелии X века Христос, наклонив голову в сторону эпилептика и упорно глядя на него, протягивает к нему руку, и больной, к изумлению окружающих, начинает выпрямляться. Подобным же образом и Себастьяно дель Пьомбо изобразил воскрешение Христом Лазаря в картине (Лондон, Национальная рес галерея), писанной одновременно с «Преображением» Рафаэля. Христос, глядя на Лазаря с легкой улыбкой чудотворца, протягивает к нему левую руку с вытянутым указательным пальцем, правую же, с раскрытой ладонью, поднял вверх, и умерший Лазарь начинает приподниматься — совершается чудо, свидетельствующее о всемогущвстве бога.
Но на картине Рафаэля никакого чуда не происходит, здесь изображено не исцеление одержимого, а неспособность апостолов его исцелить. До Рафаэля такого не изображал ни один художник. Отрицать это невозможно, религиозные критики пытаются дать картине мистическое истолкование: Рафаэль-де хотел противопоставить человеческому бессилию учеников сверхъестественную силу Христа — бога, которому одному дано творить чудеса. Но где же это противопоставление на картине? Где чудотворное могущество бога? Христос здесь не посрамляет неверия учеников, не творит чуда, не исцеляет больного. Он не только не помогает — он просто не замечает того, что происходит внизу. Взор и помыслы его — в небесах, куда он возносится отрешенно. Художник выразил свою мысль достаточно ясно, но она неприемлема для религиозных толкователей его творчества, чтобы отвергнуть очевидное, они вынуждены прибегнуть к парадоксальной «логике»: чем меньше благ получат от бога люди, тем больше будет в них веры. Юсти высказал это с достаточной откровенностью: «Заботы земли зовут Христа к себе, но он занят другим… В блаженном забвении мира он поднимает свой взор к тому духовному солнцу, которое открывается только почему… Всегда низшее тянется к высшему, высшее же отворачивается от низшего… Святое… возвышает нас и приводит в восторг не тогда, когда оно обращает к нам свое лицо и протягивает нам руку, но когда и руку и глаза оно отворачивает от нас и обращает их ввысь. Мир будет спасен и блажен, когда он забудет самого себя перед лицом духа».
Так раскрывается воинствующе антигуманный смысл религиозного истолкования блага мира и человека. Правоверные критики картины Рафаэля даже не замечают, что приходят в противоречие с текстом Евангелия. Нельзя и не согласиться с Дж. Меллини, упрекнувшим таких критиков в манихействе, в том безысходно пессимистическом вероучении, которое абсолютно противопоставляло дух и материю, тело и душу, бога и мир. Конечно, всякая религия непременно исходит из дуализма плоти и духа потому непременно требует презрения к миру и к реальному, земному человеку. Но от крайностей манихейства христианская церковь всегда стремилась отмежеваться.
Ведь исступленная вера вопреки всему легко может привести на грань неверия: полный разрыв между земным и божественным не есть ли неверие во всемогущество торжества?
Церковь отлично понимала это, особенно в эпоху, когда поднимавшаяся буря социально-религиозных движений готова была опрокинуть «челн святого Петра». Не потому ли в упоминавшейся выше работе художника Карото сцена
неисцеления одержимого была решительно отделена от сцены преображения, а в «Преображении» Себастьяно дель Пьомбо — вовсе устранена. Если же изображались обе сцены, то только так, чтобы, вопреки неспособности апостолов, было показано действительное (а не «в вере» только) исцеление бесноватого самим Христом,— это можно видеть на упомянутой картине молодого Рубенса. Церкви нужно было убедить верующих в реальности божественной и ее собственной спасительной силы.
Обратимся к рассмотрению нижней сцены. Ее по праву можно назвать главной частью картины — по высоте она занимает почти 3 / 5 всей панорамы. Мало того, это передний план и фигуры здесь в полтора-два раза крупнее, чем наверху, в сцене собственно преображения. Центр действия и центр внимания зрителей явно отнесен в нижний ярус картины. Если бы художник стремился показать ничтожество земных тревог и величие небесного благолепия, едва ли он поступил бы подобным образом.
В нижней сцене — две раздельные группы фигур: слева апостолы, справа народ. Присмотримся к ним ближе. Апостолов девять. Один из них, юный, с локонами до плеч, порывисто наклонился вперед. Прижав руки к груди, он с состраданием смотрит на муки больного. Другой, старше, с красивым и умным лицом, стоящий как бы в вершине этой группы, резко выбросил в сторону одержимого правую руку и, обернувшись к своему товарищу, как бы указывает ему: вот кому мы обязаны помочь. Тот, с крупным, неприятным лицом, с головой, уходящей в плечи, смотрит на страдающего юношу внимательно, с любопытством, но тяжеЛым и равнодушным взглядом. По мнению многих авторов, это Иуда. Еще один, сидящий ниже в этой же группе четырех фигур, массивный человек в красном хитоне, тоже внимательно смотрит на эпилептика. На его лице любопытство смешано с брезгливостью, а руки, с растопыренными пальцами приподняты в жесте отталкивания.
Встревоженность, готовность помочь, видимо, проявил апостол (Андрей?), сидящий в левом нижнем углу с раскрытым фолиантом,— самая пластически выразительная фигура в группе учеников Христа. Но, видимо, рецепта исцеления он в книге не нашел и теперь тоже пытается отстраниться резким жестом руки с выставленными вперед пальцами и аналогичным движением босой ноги.
Стоящий над ним кудрявый апостол в красном плаще не выражает никакого сочувствия, но, резко подняв левую руку, указывает вверх, как бы говоря: не требуйте от нас, мы ничем помочь не можем,— может только учитель. Тот же жест, но вяло, равнодушно повторяет апостол, сидящий левее и ниже предыдущего; на происходящее он даже не смотрит. Равнодушие выражают и лица еще двух апостолов, виднеющихся слева, за спинами перечисленных. На лице старшего из них, с опущенными веками,— тень досады: всё это не ново, помочь тут ничем нельзя, и зачем понапрасну поднимать шум!. Ту же досаду и желание устраниться выражает и движение рук младшего.
Таким образом, апостолы — разные. Два-три лица могут вызвать симпатию зрителей, но горячее сочувствие к больному по-настоящему проявляет только один. Группа в целом охвачена тревогой, но разрешается она бессилием, равнодушием, стремлением избавиться от докучных просителей. В нижнем левом углу картины виднеется краешек водоема. Видимо, апостолы безмятежно отдыхали у ручейка; крик одержимого вспугнул их спокойное уединение, вторжение толпы людей привело в смятение, мольбы вызвали досаду, раздражение.
Правую часть переднего плана занимают люди, пришедшие с одержимым. Здесь отец больного, истерзанный страданиями сына. Здесь молодая женщина, тоже поддерживающая эпилептика, быть может, сестра; она упала на колени перед апостолами, жестами и взглядом, полным любви и сострадания, прося о помощи. За нею — благообразный старик с добрым лицом, возможно, врач, почтительно склонившийся перед апостолами. В его жесте разведенных кистей рук — и признание своего бессилия, и просьба. Однако во взгляде, в улыбке сомкнутых губ сквозит сомнение, даже ирония. Просительно, но и настойчиво протягивает к апостолам руку стоящая за ним женщина. При этом в подавляющем большинстве — какие простые, простонародные лица!
Психологическая и эмоциональная окраска этой группы (в противовес группе апостолов) отличается теплотой, сердечностью, искренностью чувства. Совершенно очевидно: художник противопоставил две группы. Чтобы на этот счет не возникло сомнения, он проложил между ними косо идущую полосу почти сплошного мрака, которая, как пропасть, разделяет их.
У самого края этой непереходимой черты взгляд зрителя властно привлекает к себе фигура женщины, очевидно, матери несчастного юноши. В евангельском рассказе ее нет, и тем многозначительнее это самовольное нововведение Рафаэля. Выйдя вперед из группы людей, сопровождающих одержимого, она опустилась перед апостолами на колени и обеими руками указывает на своего страждущего сына. При этих движениях с ее левого плеча упал плащ и сползла часть туники, обнажив верхнюю часть прекрасного торса. Она подобна античной статуе. Столь же прекрасно ее лицо. Она не рыдает, не рвет на себе волосы, не молит. Гордым движением наклонив голову, она требует помощи. Рот ее полуоткрыт — она бросает горькие укоризны в лицо апостолам, прежде всего тому старику с безполезным фолиантом в руке, что сидит в левом углу, напротив нее.
Апостол растерян и испуган этим натиском. Он не может выдержать негодующего взгляда женщины. Пытаясь как-то загородиться, он резко выбросил в ее сторону левую руку с растопыренными пальцами. Этот жест усилен параллельным движением его правой ноги. Так на первый план всей картины Рафаэль вынес психологический поединок двух самых ярких ее персонажей; каждый — квинтэссенция двух столкнувшихся сил. И духовное превосходство — на стороне предводительницы народа. Она требует дела, а не отговорок, не ссылок на священные тексты. Она наступает, и апостол тщетно пытается защититься от ее правоты.
Как показали новейшие специальные исследования первоначально волосы этой женщины были растрепаны отдельные пряди падали на лицо. Тем несомненнее: это мать больного юноши. Затем художник снял эти правдоподобные детали: ее волосы уложены в аккуратную красивую прическу, открывая четкий, чистый классический профиль. Жанровость уступила место глубокому обобщению, бытовая мелодрама поднята на уровень высокойтрагедии. Это и теперь мать одержимого,— но не только Это сама Немезида, сама Истина. Гордая, бесстрашная обличающая, она стоит несокрушимо, как скала (обращенная к апостолам левая сторона ее фигуры образует почти прямую вертикальную линию, и так же вертикально ниспадает край ее плаща), впереди толпы, на самой грани того черного провала, который отделяет апостолов от народа. Это один из самых возвышенных и героически) женских образов, созданных Рафаэлем. Очевидно, не напрасно художник так ярко, резко высветил ее фигуру на фоне почти непроглядного мрака и поставил вплотную к центральной вертикали картины, проходящей через фигуру возносящегося Христа. Это — сама Справедливость. Во главе с нею — уже не толпа,— это народ.
Примечательно: цвета одежды этой женщины -розовая туника и синий плащ — точно повторяют традиционные цвета одежды мадонны. Они подчеркивают значение, какое придавал этой фигуре Рафаэль. Однако здесь совершенно новая «мадонна»: борющаяся за своего сына, негодующая, обвиняющая, требующая человечности. Конечно, в самых проникновенных мадоннах Рафаэля уже таились зачатки негодования, непримиримости к злу готовности к героическому подвигу, но только здесь впервые земная женщина-мать предстала как грозная обвинительница неправды и бесстрашная поборница справедливости — защитница всего страждущего человечества перед лицом бессилия и равнодушия тех, кто объявил себя учениками самого бога.
Несомненно, эта женщина — главная фигура нижней сцены и, более того,— всей картины (в этом не сомневался даже Вазари), ибо в ней — кульминация тех чувств, которые обуревают жаждущий справедливости народ. Она бросает вызов мнимым хранителям высшей истины. Ее благородство и суровое очарование недвусмысленно показывают, где сосредоточены симпатии художника.
Так раскрывается второй, глубже лежащий смысловой слой картины Рафаэля. Несомненно, сцена человеческих страданий развернута художником в противовес горнему Преображению. Но этим контрастом, идущим, так сказать, от вертикали, диссонансность картины не исчерпывается. Острейший конфликт развертывается также между страждущим народом и неспособными помочь ему учениками Христа. Очевидно, этому конфликту Рафаэль придавал особое значение, развернув его на первом плане, прямо перед глазами зрителя. И он нашел в высшей степени выразительные художественные средства для раскрытия этого конфликта.
Напряженный драматизм нижней сцены выражен уже через самое ее построение.
Группа апостолов занимает большую часть пространства переднего плана. Они свободно сидят, широко жестикулируют. Группа народа многочисленнее, но теснится в правом нижнем углу картины. Эти люди ворвались сюда, на авансцену, откуда-то справа, из-за горы, как узкий клин, направленный против группы апостолов. Темная полоса провала, разделяющего обе группы, четко очерчивает две столкнувшиеся неравные, остроконечные геометрические фигуры: широкую трапецию группы апостолов и теснящий ее клинообразный треугольник группы народа. Осью этого последнего служит строго прямая диагональная линия голов четырех главных фигур — двух женских и двух мужских. А завершается она, как острием, выставленным вперед стрелообразно согнутым локтем левой руки матери, резко освещенным на темном фоне.
Группа апостолов активно реагирует на натиск этого клина. Она частично потеснена и как бы несколько отклоняется влево. Но она и противодействует непрошенно явившимся людям: навстречу им выставлены две руки, резко выброшена нога. Группа словно ощетинилась против пришельцев-просителей: да не посмеют они перешагнуть священную черту, положенную между духовенством и мирянами!
Необычайно выразительна не только динамика жестов, но и освещения. С помощью жестов и света художник ведет взгляд зрителя в нужном направлении. В геометрическом центре картины на темном фоне горы резко выделяется голова апостола. Это начальная точка движения и вершина фигуры. Под нею ярко высвечена его рука, указующая на одержимого. Эта линия, пройдя через освещенную голову женщины, поддерживающей больного, ведет к его голове,— это вторая вершина фигуры. От нее, повернув под острым углом, световая ось, пройдя по его груди, по линиям рук двух женщин, указывающих на него, по ярко освещенному левому плечу матери, через темный провал, упирается в отстраняюще выставленную ладонь апостола, сидящего с книгой в левом углу. Это третья опорная точка. Дальше, двигаясь по линии ярко освещенного левого предплечья и плеча этого апостола (движение его левой руки и правой ноги почти точно параллельны движению руки апостола в центре картины), взгляд переходит на его освещенное правое плечо и упирается в макушку апостола, сидящего спиной к зрителю. Отсюда, круто повернув направо и вверх, единая полоса света по поднятым вверх рукам двух апостолов ведет к вершине горы, к фигуре возносящегося Христа. Так образуется как бы разомкнутый ромб.
Правда, другая световая ось — от ярко освещённой головы апостола с книгой, через правое плечо и освещённую голову юного апостола, наклонившегося к больному, казалось бы, снова замыкает фигуру движений — на лице апостола в центре картины, указывающего на одержимого. Но единая линия указующих вверх рук двух апостолов, проходящая через яркое световое пятно пурпурного плаща стоящего ученика Христа и завершающаяся, как копьем, его поднятой рукой с воздетым указательным пальцем,— ярче, сильнее. Ромб не замыкается. Это даже скорее не ромб, а ромбическая спираль. Заключенная в ней, как в пружине, энергия движения не замыкается в себе, не получает успокоения, но силой вскинутых рук двух апостолов выбрасывается за пределы породившего ее конфликта, вообще за пределы нижней сцены.
А ведь все началось с настойчивого жеста апостола в центре: этому страждущему нужно помочь! — и с содержавших тот же смысл жестов двух женщин, чьи руки, как стрелы, сходятся на груди больного юноши. Завершилось же все резким, почти изгоняющим жестом выброшенной вверх руки стоящего апостола,— решительной отсылкой к учителю, который на горе, к богу, на помощь которого нужно уповать. Причем жест этот не содержит намека на какое-либо смущение учеников Христа собственной неспособностью (не то, что жест старика-врача, признающего свое бессилие), ни тени милосердного сострадания. Нет, этот резкий жест руки, с острым навершием воздетого укйзательного пальца, звучит как жесткое приказание, как повелительное «вон!».
Однако взволнованных людей не удовлетворяет такой ответ на их просьбы. Об этом со всею ясностью говорит, как мы видели, образ матери. Но и во всей группе народа выражение просьбы смешано с выражением недовольства и требования. Женщина, которая виднеется за фигурой старика-врача, подняла в сторону апостолов сомкнутую ладонь, как бы говоря: вы же называете себя учениками мессии, так где же ваша чудодейственная сила? А над ее головой высоко поднята и высвечена художником рука чернобородого человека в ярко-красном плаще. Молодой, сильный, грубоватый, он возвышается над всеми фигурами правой группы (он чуть выше и апостолов). В лице его — никакого пиетета, только нескрываемое недовольство, рот полуоткрыт; он что-то говорит возмущенно. Движение его выброшенной вперед и вверх сильной, жилистой руки с раскрытой ладонью (она тоже чуть выше указующего вверх перста апостола) выражает то же возмущение: где же ваша святость, если вы не можете помочь! И до каких пор народ понапрасну будет ждать облегчения своей участи?!
На первый взгляд может показаться, что жест чернобородого мужчины подкрепляет ту связь нижней сцены с верхней, которую намечает воздетая рука апостола. В действительности это — контржест: апостол, так сказать, переадресовывает просьбы людей к богу: там ищите помощи! — а чернобородый человек именно тем и возмущен, что вместо помощи ученики Христа только указывают на гору, на небеса. Его взгляд обращен прямо на стоящего апостола в красном плаще, рука противостоит руке, фигура фигуре; примечательно, что художник одел обоих в плащи одного цвета.
Если проследить направление жестов рук матери и сестры, то окажется, что их линия, пройдя через грудь и запрокинутое лицо одержимого, упирается в грудь чернобородого человека с поднятой рукой, ведет к нему. На единой прямой восходящей линии расположены четыре лица: смиренно просящей сестры больного, его истерзанного мукой отца, страстно ждущего помощи, а с обоих концов эту линию замыкают лица коленопреклоненной, но непримиримой, матери-Справедливости и прямо стоящего возмущенного мужчины в красном. Из страданий и просьб рождается открытый протест.
Этой могучей мятежной ноты в картине Рафаэля религиозные критики словно бы совсем не замечают. В лучшем случае они признают, что в нижней сцене изображено море человеческих страданий, но настроение народа на картине истолковывают только как «просьбы и мольбы», Казалось бы, мольбы — атрибут веры должны радовать ее поборников, однако плохо скрыв немое неприятие этой сцены выдает, что смысл ее в общем-то понятен благочестивым критикам. Так, клерикальный автор Р. Бранка, вслед за М. Марангони, не видит в нижней сцене ничего, кроме «толчеи и скандального происшествия», называет ее «беспорядочной и площадной». А ведь изображен, казалось бы, евангельский эпизод.
Особенно резко неприемлемость картины Рафаэля для религиозного сознания выразил в свое время ей Фридрих Шлегель. Этот поборник благочестия, называвший Рафаэля «работником божьим», чье искусство служило прославлению церкви и религиозной веры в 1808 году впервые увидев «Преображение», обрушился на картину с горячей филиппикой. Его раздражала нижняя часть картины, а всю ее он упрекал за недостаток скромной серьезности и глубокой религиозности. В «Преображении» Шлегель усмотрел поворотный пункт отхода Рафаэля от «высокого назначения религиозного искусства».
В чем же Шлегель усмотрел «прегрешение» художника? Он ответил на этот вопрос достаточно определенно. Всю нижнюю группу он разделил на «верующих» — апостолы и «ропщущих, жалующихся неверующих» сопровождающие эпилептика. Конечно же, Шлегелю нетрудно возразить: если бы не верили, не привели бы больного к апостолам. Но он верно увидел в рафаэлевской толпе недостаток смирения, роптание, готовое вырваться открытым бунтом, и обоснованно заключил, что такой народ стоит на пороге неверия и что беспомощности апостолов, конечно же, поможет ему перешагнуть эта порог. Но тем самым откровеннее, чем кто-либо до него отец реакционного романтизма признал неортодоксальность картины, еретическое свободомыслие художника.
Можно понять священное негодование поборника религии: введя в благочестивую тему преображения сцену «грубых» страданий народа, более того, сцену народного недовольства, Рафаэль профанировал божественную материю. Так и не показав исцеления бесноватого, перечеркнул самый смысл евангельского сказания. В cyщности, заменив сцену исцеления сценой столкновения народа с апостолами, из которой рождается открытый протест, он бросил в лицо церкви недвусмысленный упрёк в неспособности и нежелании помочь народу’.
Невероятным это может показаться только тому, кто верит легенде о безусловной покорности Рафаэля церкви или о его непогрешимом правоверии. Но вот что писал о нем Бальдассаре Кастильоне, человек очень близко знавший и искрение любивший великого урбинца: «Даже кардиналам, рассматривавшим картину, которую начал писать художник, не понравилось, что лица апостолов Петра и Павла написаны слишком яркими красками. Рафаэль возразил им; «Господа, разумеется, не ошибка, я написал так намеренно. Надо думать, что на небесах лица этих святых даже красны — из-за того стыда, который они испытывают, видя, как правят их церковью люди вроде вас» (Н. RonjH Raphael. Paris, 1908—1909, p. 67).
с.Стам
Слава Рафаэля Санти, или , как называли его соотечественники, «божественного Санцио», выдающегося живописца и архитектора эпохи Возрождения, пережила века. Творения, созданные рукой гения, почти осязаемо запечатлели высочайший взлет человеческого духа, воплотив в ясных и гармоничных образах пафос гуманистических идеалов не только Ренессанса, но и многих последующих столетий…
Тысячи книг, статей, научных исследований написаны о творчестве художника, множество монографий, начиная со знаменитых «Жизнеописаний» Джорджо Вазари, рассказывают о его короткой (он прожил всего 37 лет), но яркой и необычной судьбе. Уже современники воспринимали искусство Рафаэля как рожденное чудом, а реальные свидетельства его биографии расцвечивались поэтическими отсветами преданий о небесных озарениях юного мастера, якобы послуживших композиционной основой великих картин.
В действительности же творческий путь Рафаэля был исполнен многих испытаний.
Будущий художник родился в маленьком городке Урбино. По одним сведениям это произошло 26 или 28 марта, по другим — 6 апреля 1483 года. Он рано осиротел, потеряв сначала мать, а вскоре и отца. После смерти Джованни Санти — посредственного поэта и живописца, который и привил первоначальные художнические навыки своему сыну Рафаэлю, 12-летний мальчик поступил мастерскую Тимотео Вити.
Если верить сохранившимся литературным источникам,начинающий не отличался качествами вундеркинда. Талант его развивался медленно. Можно предположить, что многое здесь определялось тем, что его характер отличала особая мягкость, чтобы не сказать застенчивость, в общении с людьми.
Внешне жизнь Рафаэля протекала спокойно. Он учился у признанных мастеров своего времени. Оставив Тимотео Вити, юноша переселяется в Перуджу, чтобы работать в мастерской умбрийского живописца Пьетро Перуджино Через пять лет переезжает во Флоренцию, где творили тогда Леонардо да Винчи и Микеланджело. Не добиваясь дружбы прославленных художников, Рафаэль успешно осваивает более совершенные технические приемы, параллельно работая над многочисленными образами «Мадонны с младенцем», которые принесли ему вскоре широкую известность.
 Прекрасная садовница. 1508 год.
Прекрасная садовница. 1508 год.
Его поразительные по силе убедительности композиции «Мадонны в зелени» (1505—1507 гг.), «Мадонны: Грандука» (ок. 1505 г.) и «Прекрасной садовницы» (1508 г.)’ действительно могли показаться флорентийцам наглядно запечатленными духовными видениями, ниспосланными Рафаэлю свыше. Даже в наше рациональное время трудно не попасть под власть рафаэлевского обаяния. Центральный образ католического религиозного искусства трактуется в них, по существу, внецерковно.
Используя и апокрифические мотивы, как, например, в «Мадонне со щегленком», воссоздающей легенду об оживлении глиняной птички младенцем Христом, Рафаэль ищет в этом мотиве по преимуществу выразительность правды. В облике его мадонны намеренно отринуты каноническая тяжеловесность, парадная условность иконографических схем, царственная застылость силуэта и жестов, отвлеченность мимики, непричастность Марии земному. Но нет в них и бытовой случайности, отягощенности сиюминутным натуроподобием. Развивая эмоциональные возможности темы, художник придал своим мадоннам невиданные до того значительность и величие, воплотил в их образах глубочайшую гамму человеческих переживаний.
Овеществляя в красках не столько религиозные догмы церкви, сколько тихое и гармоническое струение человеческих чувств, прозрачные и чистые ландшафты Средней! Италии, невозмутимую голубизну ее небес и неторопливую смену настроений, молчаливый, полный скрытого смысла диалог извечных в человеческой истории фигур матери и ребенка, Рафаэль выражает своего рода зримую музыку души. Взыскующему взгляду здесь бесспорно предстают психологические обобщения большой впечатляющей силы, достигнутые с помощью вполне земных средств.
На рубеже XV и XVI веков во Флоренции сосредоточились выдающиеся представители гуманизма. Рафаэль приехал сюда, когда еще не угасли величие и очарование духовных заветов флорентийской платоновской Академии. Сочинения ее главы Марсилио Фичино, в которых человек через постижение знаний, красоты и любви возвышался до божества, утверждаясь в центре мироздания, еще успешно противостояли обличающим культуру проповедям фанатичного феррарского монаха Джироламо Савонаролы. Но уже впал в разрушительные сомнения светлый талант мечтательного Сандро Боттичелли, драматичным стало творчество Микеланджело, постепенно отдалялся от живописи непревзойденный Леонардо, предпочитая открывать истины бытия в естественных науках. Идейные акценты эпохи все более теряли свою художественную и энергию, а смена времен ощущалась болезненной ломкой сознания. Искусство и наука, счастливо соединенные Высоким Возрождением в блестящих произведениях предшественников молодого Санцио, все явственнее обособлялись, обнаруживая не только кризис веры, но и возвещая начало Нового времени.
Многое из того, что у флорентийских гуманистов было предметом рассуждений и споров, Рафаэль постигал чутьем, органично воплощая мудрость изведанного в спокойных и ясных отношениях изображаемых персонажей. Произведения художника почти всегда обнаруживают стремление реализовать высокое содержание в духе верности природе, но при этом сделать его масштабнее, отчетливее, выразительнее. Красками и линиями Рафаэль как бы очищает мир от несущественного и случайного, созидая совершенную действительность и идеальный тип человека.
Его мадонны выглядели непреложным воплощением красоты и духовности высшего из доступных людям бытия, в котором рознь суетных побуждений приведена к единству. Их облик обоснован в своей усугубленной значительности не только внешней телесной исключительностью, но и внутренним всеохватывающим согласием. Форма тондо (круговой композиции), часто используемая Рафаэлем при изображении Марии с младенцем, осязаемо передает эту жажду мелодической гармонизации впечатлений.
Стиль Рафаэля флорентийского периода дал рождение знаменитой «маньера грандэ» («большой манере»), ставшей основой классицизма. Она означала не только облагороженное видение реальных форм, но и возвышенный образ мысли. Вот почему, помимо простых, общепонятных душевных движений, которые так непосредственно проглядывают в рафаэлевских мадоннах, в каждой из них есть еще и «некий переизбыток чувств, непередаваемый словами порыв, о которых можно лишь смутно догадываться» (М. Алпатов).
Мировую славу Рафаэлю принесли шедевры, созданные в римский период его творчества: фрески станц делла Сеньятура и д’Элиодоро, а также «Сикстинская мадонна», написанная в 1519 году для монастыря Сан Систо в Пьяченце.
Осенью 1508 года Рафаэль получил от своего земляка-архитектора Браманте приглашение приехать в Рим, а уже в следующем году римский папа Юлий II предложил 25-летнему художнику расписать залы его личных покоев (станц) в Ватиканском дворце. Художник должен был украсить Палату подписей (подпись — по-итальянски сеньятура), где глава католической церкви заверял официальные документы. Общей темой были избраны четыре сферы духовной деятельности человечества, которые объемлют собой мир культуры в представлениях людей той эпохи: теология, философия, поэзия и юриспруденция.
В программе, составленной по указаниям Юлия II, намечалась лишь общая смысловая канва. К тому же, когда Рафаэль приступил к работе, выяснилось, что роспись ватиканских залов уже началась — Перуджино и Содома выполнили там несколько фресок на плафонах.
Лукавые папские царедворцы постарались столкнуть двух гениев: Микеланджело в 1508 году начал расписывать потолок Сикстинской капеллы. Рафаэлю предстояло доказать духовную сомасштабность своего искусства драматическому накалу уже созданных фресок неистового Буонарроти — конфликтные отношения обоих художников не были секретом для папской курии. Интриговал Перуджино, уязвленный положением помощника при молодом маэстро. Скептически взирал на усилия Рафаэля и сам Леонардо. Но история беспристрастно засвидетельствовала: победителя не оказалось. Рафаэль увидел и воплотил величие человека по-своему.
То новое, что было привнесено молодым живописцем в трактовку предложенных тем, заключалось в отказе от использования традиционных аллегорий и изображения условных фигур, олицетворяющих отвлеченные понятия науки, религии, искусства,, правосудия и т. п. Рафаэль создал и реализовал монументальный, панорамный по охвату сценарий, в котором история каждой отрасли духовной деятельности человечества отображена в виде многоэпизодных композиций совмещающих групповые и обособленные портреты Выдающихся представителей культуры.
Облик мыслителей, поэтов, отцов церкви, античных мифологических героев в этих фресках часто далек в своих приметах от этнической или историко-бытовой достоверности. Художника влекла другая, более грандиозная задача — воплотить идеал совершенства людей в веках как содружества всех духовных устремлений. Он создал наглядное обозрение коллективного творчества лучших представителей цивилизации. Росписи Станцы делла Сеньятура, отразив мечту гуманистов о согласовании христианских заветов и беспокойных поисков пробудившегося ума, религии и философии, поэзии и законотворчества, воспринимаются как итог целой эпохи, начатой Данте и завершенной Рафаэлем.
Древние мудрецы на его фресках занимают место, равное с богословами и поэтами. Деятели науки, культуры, искусства, князья церкви волей художника собраны воедино, дабы явить нам главное: человек творит себя и историю, преодолевая заблуждения, пренебрегая знанием о конечности своего личного существования. Интерьер символического «Храма времен», запечатленный Рафаэлем во фреске «Афинская школа», как и пространственные построения фона в остальных композициях Палаты подписей, словно вовлекают посетителя внутрь сюжетных коллизий, показанных на стенах. Художник как бы предоставляет зрителям право и возможность самим сличать различные суждения об истинном призвании людей.
Сопряжение множества идей и учений в фигурах «Афинской школы», диалог о смысле веры в росписи «Диспута» или о предназначении поэзии в композиции «Парнас» осуществляются у Рафаэля через эпохи и страны, поверх ограничительных барьеров хронологии, конфессиональных запретов и исторических предубеждений. Художник не знал и не любил спекулятивных аналогий, сближающих конкретные суждения узами принудительных, пусть даже и остроумных подобий. Идейным ядром его росписей Станцы делла Сеньятура стала утопическая модель свободного соотнесения духовных исканий многих поколений. Явив своим искусством взору современников и отдаленных потомков череду выдающихся представителей человеческой культуры, зримо осуществляющих духовное предназначение людей как бы сквозь все времена, Рафаэль заставил увидеть Историю,
во-первых, гуманистически, во-вторых, вселенски — в соотношении с величайшими ценностями цивилизованного бытия.
Сегодня можно с достаточной уверенностью отожествить большинство изображенных у Рафаэля персонажей с реальными историческими лицами, можно также выявить символическое значение их жестов и поз, смыс предметных атрибутов, цветовых метафор и даже структурных особенностей композиции. Скажем, в «Диспуте» все элементы изображения устремлены к одному центру тогда как в «Афинской школе» дана, скорее, панорама отдельных самостоятельных групп, что в сравнени и выражает «характер независимой философской мысли» в отличие от соподчинения теологической иерархии (Б. Виппер).
Фрески Рафаэля населены множеством персонажей Часто это своего рода двойные портреты. К примеру в образе Эвклида, склонившегося над чертежом с циркулем в руке, запечатлен облик архитектора Браманте. Платон напоминает внешностью Леонардо да Винчи Среди сонма ветхозаветных пророков, апостолов и леген дарных святых встречаются исторически достоверные изображения Савонаролы, художника Фра-Беато Анджелико, самого автора росписей и многих известных лиц. В этих композициях всемирная история удивительно наглядно смыкается с конкретными свидетельствами времени, она, как общая канва, объемлет и скрепляет отдельные события, эпизоды, фигуры, сцены. Возникает стойкое ощущение сопричастности одномоментных прозрений смысла жизни «здесь и сейчас» неизмеримо более широкому потоку движения всечеловеческого разума.
Так, многозначительно не завершены зримым синтезом во фреске «Афинская школа» учения двух величайши философов античности — Платона и Аристотеля. Оба oни как бы продолжают свое шествие к нам. Первый, указуя перстом на небо, держит в другой руке текст «Тимея» -сочинения, в котором он изложил идеалистические представления о мироздании, Аристотель же простер ладонь над землей и несет свою книгу «Этика». Он предстает как наставник в нравственных добродетеля и мудрой гармонии земной, реальной жизни. Голубой цвет его плаща по контрасту с пламенеющим облачение* Платона знаменует не слияние этих учений, но их взаимо утверждение. Подобные зрительные контрапункты определяют композиционный строй всех росписей Станца делла Сеньятура.
В следующей по времени создания росписи —станць д’Элиодоро — Рафаэль достиг абсолютной свободы изображении драматического действия и его выразительного воплощения через жесты, позы, динамику силуэт и движения человеческой фигуры, гармонично размещенной в окружающем ее пространстве. Глядя на его сложные, многофигурные построения фресок «Изгнание Элиодора», «Освобождение апостола Петра из темницы» или «Месса в Больсене», словно читаешь своего рода «знакопись» развернутых психологических ситуаций. Фигуры выражают общую идею или осязаемый смысл изображаемой сцены, наглядно и просто раскрывая его в эффектных патетических или театрализованных жестах.
Сценическая интонация композиций станцы д’Элиодоро превращает сюжетное действо в зрелище человеческихх страстей. Движения фигур образуют узор, выражающи» знаменитую «формулу дель патетико»: сильное, но сдерживаемое чувство рождает облагороженный жест а поза своими изгибами вторит очертаниям латинско» буквы, начинающей собою глагол, которым определяют страсть, испытываемую телом.
Прорыв к жизненной достоверности, в отличие от титанических чувств Микеланджело, воплотился у Рафаэля не в интенсификации переживаний, а в их всестороннем развертывании. Человек, представленный его искусством подлинно человечен, только если полно реализует себя в страстях, дерзаниях ума и воли, в столкновениях долга и порыва, преступления и возмездия. Карающий ангел-всадник настигает Элиодора, укравшего храмовые деньги, лишь у выхода из церкви, оставляя зрителю возможность домыслить путь, предшествовавший этому драматическому моменту. Апостол Петр осознает присутствие спасшей его высшей силы, увидев спящих стражников. Здесь внешний мир наполняется смыслом, только одухотворяясь человеком, а не божественным чудом,— такова драматургия самих сюжетов.
Аллегоризм мышления Рафаэля кроется в психологической глубине изображаемых ситуаций. Устранив в своем искусстве тиранию религиозно-дидактического символизма, который все реальные проявления жизни наделял значениями, скрыто выражающими «присутствие божества», художник, по меткому определению поэта, «впал, как в ересь, в неслыханную простоту» (Б. Пастернак).
«Сикстинская мадонна» стала ярчайшим свидетельством этого духовного переворота в сознании и творчестве Рафаэля. Когда живописец принялся за создание этой алтарной картины, ему было около тридцати лет. Рафаэль обрел признание и чувство уверенности в себе. Он возглавляет строительство главного собора Рима, руководит археологическими раскопками античных древностей, ведет множество заказных работ. Даже в отдаленных предвестиях внезапной меланхолии, временами его охватывающей, никто не угадывал скорого надлома всех сил, последней вспышки жизненной энергии.
Полагают, что «Сикстинская мадонна» — заказной надгробный образ для захоронения папы Юлия II, чем и объясняют композиционный строй произведения — аналогичный в деталях скульптурным надгробиям того времени. Это же определяет и присутствие на картине фигур святой Варвары и папы Сикста 11 (отсюда и название образа) небесного патрона рода Ровере, из которого происходил Юлий II.
Но идея картины не сводима к означенной дидактике. Ее глубина, причина производимого ею потрясающего впечатления состоят именно в прозрачной ясности слияния духовной и физической сущностей человеческого бытия. Мадонна, нисходящая по облакам на землю, замерла на мгновение, явив миру зыбкость границ, отделяющих простые и обыденные истины от горних озарений. В картине неопределимо ни время происходящего, ни пространственные его характеристики. Что скрыто кулисами, обрамляющими Марию с младенцем, где размещены реальные предметы — папская тиара, карниз, кольца, держащие занавес? Какой ветер раздувает складки облачения мадонны и куда устремлен ее взор? Ответов на эти и множество других подобных вопросов в картине Рафаэля нет. Мало что разъясняют и сложные богословские, искусствоведческие истолкования сцены, запечатленной его кистью. Простота того, что видят глаза, прямо спорит с попыткой алгебры разъять гармонию. Рафаэль снял с церковной темы ее аллегорический покров, претворив сумму религиозных символов в открытие величия и достоинства человека.
О «Сикстинской мадонне» можно сказать, что она словно соткана из нарушений канона. В ее композиции неправильности в построении перспективных смещений удивительным образом разрешаются психологически выверенной динамикой ракурсов. Направление взглядов Сикста II, Варвары, херувимов, изображенных внизу, в своем пересечении устраняют деление на передний и задний планы. Действие, запечатленное рукой Рафаэля, обособляется от законов логического восприятия.
Личная вовлеченность в смысл происходящего и рождает небывалую степень духовного погружения в мир переживаний художника. Все опосредованные символы и значения утрачивают при этом свою обязательность. Видимо, именно здесь возникает ощущение предельной простоты, венчающей собой переход от учености к мудрости, от олицетворения идеальноои к уверждению жизненности. Вот почему человеческое совершенство Марии в «Сикстинской мадонне» не кажется противостоящим земной реальности, но как бы поясняет наше бытие, завершает его как «наиболее полное раскрытием начал, которые в мире заключены» (М. Алпатов).
«Сикстинская мадонна» еще при жизни художн» поразила его современников своей отточенностью и оконченностью. В этом произведении воплотился весь гений великого живописца. Сам Рафаэль уже никогда не достигал таких высот творчества.
В последние годы он много и небезуспешно работал над картонами «для десяти стенных ковров по сюжетам «Деяний апостолов». В этот период он переживал духовный кризис, что не замедлило отразиться и на его искусстве. Подорванное работой и внутренним конфликтом здоровье художника все более слабеет.
Рафаэль умер во славе, но посмертное его величие превзошло прижизненное признание. Он стал на веки образцом совершенства для художников и нелегкой загадкой для историков искусства, ибо никто в свое творчестве прежде, да и потом, не высказывал столь просто и ясно сложных и неочевидных истин о человеке и его месте на земле, смысле истории и самого искусства. Благодарные потомки не устают отдавать дань восхищения и памяти гению Рафаэля. И каждое столетие, отделяющее нас от времени жизни великого художника, высвечивает в его произведениях все новые грани гармонии бытия.
Мартынов В.
Рафаэль — это грация, это красота, это гармония, одним словом — это Рафаэль.
Д. ЭНГР.
Рафаэль — художник, чье творчество для современников и потомков стало как бы синонимом красоты, совершенства и грации в искусстве. Вместе с Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тицианом и Браманте он создал идеальную художественную форму, связанную в нашем представлении с небывалым взлетом в истории европейской культуры, с искусством зрелого Возрождения в Италии. Более того, именно творчество Рафаэля отметило высшую точку в развитии классического искусства Возрождения, ту кульминацию, которая в полной мере раскрыла заложенные в итальянской ренессансной культуре возможности. Антропоцентризм Ренессанса вылился в стройную систему нравственных ценностей (выработанных еще гуманистами XV столетия), которые были воплощены в идеале «uomo universale» (совершенной личности) зрелого Возрождения. Не малая заслуга в художественном воплощении гуманистического идеала совершенной личности принадлежала Рафаэлю.
Мир во множестве самых разнообразных проявлений приходит в творениях Рафаэля к почти идеальному равновесию и гармонии. Эстетически преображенная реальность выступает в его произведениях как результат синтеза реального, взятого из природы или жизни людей, мотива с теми идеальными, возвышенными представлениями о мире, которые были выработаны современной художнику гуманистической культурой.
Еще при жизни слава вознесла Рафаэля на недосягаемые высоты. В своем жизнеописании Дж. Ваза-ри, один из первых историографов итальянского искусства, творя легенду, миф, который завораживал потомков и лишал их самостоятельности суждений, смотрит на Рафаэля как бы сквозь «лучезарный туман». Миф о «божественности» дара Рафаэля-художника, о необыкновенном обаянии его личности, отмеченной печатью гения, импонировал представителям классицистического направления в европейском искусстве XVII—XVIII веков. В начале XIX столетия он был подхвачен немецкими романтиками, которые увидели в искусстве Рафаэля и его судьбе воплощение романтических представлений о художнике-творце. Среди поклонников Рафаэля были И. Винкельман и И. Гёте, перед ним преклонялся и его боготворил Д. Энгр, им восхищались А. Иванов и Ф. Достоевский, его произведения превозносили Ф. Овербек и П. Кор-нелиус. «Рафаэль,— писал Винкельман,— подобно грекам, творил из самого себя; в нем соединились выработанное учением чувство красоты с детской, непосредственной радостью восприятия мира, именно то качество, каким были одарены греки!» Гёте ставил Рафаэля вровень с У. Шекспиром и Гомером. Его искусство было для великого поэта воплощением высшего совершенства художественного гения человечества, критерием красоты.
Искусство рубежа XIX—XX веков вместе со стремлением разорвать сковывавшие его узы академизма ниспровергает авторитет Рафаэля. Его творчество стало для многих символом безжизненной идеализации и торжества схемы. Однако и поклонники, и противники Рафаэля были единодушны в главном — в признании величия его художественного гения: одни видели в нем великого творца, другие —«великого эклектика».
Урбино
Рафаэль Санти родился 6 апреля 1483 года в семье придворного поэта и живописца урбинских герцогов Джованни Санти. Семья Рафаэля не могла похвастаться древностью рода — его предки происходили из небольшого городка Кольбордоло близ Урбино и были мелкими торговцами. Детские и юношеские годы Рафаэля прошли в окружении искусства, а его первые впечатления овеяны поэтической красотой скромного, как бы омытого чистой голубизной горного воздуха пейзажа Урбино. Художественные традиции родного города, бывшего во второй половине XV века одним из заметных центров итальянской гуманистической культуры, во многом определили судьбу Рафаэля.
Наибольшего расцвета Урбино достиг в период правления (1444— 1482) герцога Федериго да Монтефельтро. Его усилиями была собрана уникальная по количеству и качеству рукописей библиотека. В ней преобладали трактаты по геометрии, астрологии, математике, медицине, военному делу, свидетельствующие о естественнонаучных интересах хозяина. Однако не были забыты латинские и греческие философы, сочинения отцов церкви и современных теологов. В библиотеке урбин-ского замка была собрана прекрасная коллекция трактатов по архитектуре, живописи и музыке. В целом пристрастие Федериго да Монтефельтро к точному знанию и духовным ценностям античности определялось его воспитанием: он учился у одного из самых замечательных педагогов эпохи Возрождения — Витторино да Фельтре, а также родом его занятий: он был кондотьером и через всю жизнь пронес любовь к военному искусству и военной деятельности.
За время правления Федериго да Монтефельтро преобразился и облик урбинского замка. Архитектурный гений Лучано Лаураны сотворил чудо. Сложный по плану, внешне вполне средневековый суровый замок, мощными стенами обращенный к городу, преображался в ренессансный дворец, когда посетитель попадал в светлые пролеты легких аркад его внутреннего двора, проходил по комнатам, украшенным живописью, скульптурой, деревянными интарсиями в соответствии с гуманистическими вкусами хозяина.
В Урбино работали многие художники, чье творчество связано с расцветом искусства Раннего Возрождения в Италии. В украшении дворца принимали участие флорентийские скульпторы Дезидерио да Сеттиньяно и Лука делла Роббиа. Живописец Пьеро делла Франческа, крупнейший представитель умбрийской школы XV века, написал здесь свои знаменитые портреты герцога Монтефельтро и его жены Баттисты Сфорца. Мелоццо да Форли, возможно, украшал фресками стены библиотеки, для которой нидерландский живописец Юстус ван Гент создал исторические портреты выдающихся писателей и мыслителей древности. Известно также что Урбино посещал знаменитый гуманист и превосходный архитектор Леон Баттиста Альберти. В строительстве дворца и создании убранства его интерьеров участвовал архитектор Фран-ческо ди Джорджо Мартини, архитектурные и инженерные трактаты которого хранились в библиотеке герцога. В окрестностях Урбино родился крупнейший архитектор зрелого Возрождения Донато Браманте. Здесь прошли его юношеские годы, здесь, возможно, он познакомился с Рафаэлем, дружбу и любовь к которому сохранил до конца своих дней.
После смерти Федериго да Монтефельтро отец Рафаэля Джованни Санти создал «Рифмованную летопись». В ней он прославлял жизнь и ратные подвиги герцога, а также его гражданские добродетели, не последнее место среди которых занимало покровительство наукам и искусствам. Одна из глав поэмы была посвящена живописи: в ней упоминались Андреа Мантенья, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино и Леонардо да Винчи. Не забыл Джованни Санти и двух самых значительных представителей нового нидерландского искусства XV века — Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена.
Судя по немногим сохранившимся произведениям, лучшим из которых является «Мадонна с младенцем» (Урбино, Палаццо Дукале), Джованни Санти не был выдающимся художником, как не был и большим поэтом. Он усвоил присущую умбрийской школе мягкую поэтичность образов, был знаком с основными принципами линейной перспективы и умело владел законами построения глубинного пространства на плоскости. Работы Джованни Санти свидетельствуют о его внимании к опытам Пьеро делла Франческа в области световой насыщенности цвета и к иллюзионистическим достижениям Мелоццо да Форли. Вполне возможно, что именно Джованни Санти был первым учителем Рафаэля и с раннего детства смог привить мальчику вкус к прекрасному, познакомить его с миром современного искусства. Благодаря связям отца Рафаэль сблизился с сыном Федериго да Монтефельтро, Гвидобальдо. В течение всей жизни он пользовался дружеской поддержкой и покровительством его жены, Елизаветы Гонзаго, главной героини светских дружеских бесед, описанных в «Придворном» Бальдассаре Кастильоне.
В 1491 году Рафаэль потерял мать, а через три года, в 1494 году умер отец. Одиннадцатилетний мальчик остался сиротой на попечении дяди фра Бартоломео, который не столько заботился о судьбе племянника, сколько бесконечно судился с мачехой Рафаэля Бернардиной. Судя по переписке Рафаэля, душевное тепло и родственную близость он находил в общении с другим своим дядей, братом матери, Симоном Чиарла.
После смерти отца, примерно в течение пяти лет мальчик учился в мастерской придворного живописца урбинских герцогов Тимотео Вити, скромного художника, хорошо усвоившего уроки болонца Франческо Франча (впоследствии страстного поклонника таланта Рафаэля), органически воспринявшего поэтически воспринявшего поэтическое обаяние образов Перуджино и красоту его воздушных пейзажных фонов.
Восприимчивый, чуткий к внешним воздействиям Рафаэль на первых порах жадно впитывал окружающие его художественные впечатления, не последнее место среди которых занимали работы его учителей. Поэтому не трудно заметить в еще робком, ученическом произведении Рафаэля, относящемся примерно к началу 1 500-х годов,—«Сне рыцаря» (Лондон, Национальная галерея) черты, общие для многих умбрийских художников конца XV века,— плавную музыкальную линию силуэта, поэтичность и тонкий лиризм женских образов с их характерным наклоном головы и «голубиным» взором. Та же размягченность, легкая грусть разлиты в пейзаже, с излюбленными мотивами пологих зеленых холмов. Но уже в этом юношеском произведении Рафаэля пейзаж и фигуры переднего плана слиты в единое целое, их внутренняя нерасторжимость усиливает впечатление гармонии и ничем не нарушаемого покоя. Интерпретация античного сюжета — считается, что в картине изображен Геракл на распутье между Доблестью и Наслаждением,— в романтическом духе рыцарской легенды отдаленным эхом напоминает ушедшее в прошлое поздне-готическое искусство Пизанелло и Джентиле да Фабриано.
Период почти пятилетнего пребывания Рафаэля в мастерской Тимотео Вити позволил молодому художнику более сознательно воспринять художественные традиции умбрийской школы. Умб-рийская живопись рубежа XV— XVI веков, по сравнению с наиболее передовой школой того времени — флорентийской, кажется архаичной и провинциальной, ограниченной определенным кругом творческих интересов ее представителей. В центре внимания умбрийских живописцев стоял не столько человек, активно проявляющий свою индивидуальность в поступках и действенном восприятии мира, сколько самый мир, окружающий человека. Источник подобного внимательного вглядывания в реальное природное окружение можно видеть в традициях позднеготического «эмпирического реализма» такого крупного мастера этой школы, как Джентиле да Фабриано. Отсюда столь последовательное стремление умбрийских художников к разрешению проблем пространства, пристальное внимание к многоцветию и многообразию мира живой природы, к художественному воплощению красоты реального мира и мира архитектурных форм, сотворенных руками человека. Именно эти особенности живописи умбрийской школы сформировали в Рафаэле редкую способность придавать любой композиции ясную, спокойную пространствен-ность, легкую обозримость целого и пластическую убедительность каждой отдельной детали.
Наибольшее влияние на творчество Рафаэля оказало искусство Пьеро делла Франческа с его стремлением к совершенному воплощению идеальных представлений о гармонии мироздания, с его поисками изначальных, как бы первичных элементов ясной и упорядоченной, уподобленной простейшим сферическим телам формы.
Увлеченный математикой и теорией пропорций, Пьеро делла Франческа не был сухим аналитиком, подчинившим творческое
воображение строгому контролю разуме. Он был удивительно тонким поэтом, умеющим передавать красоту далекого горного пейзажа, светлые, как бы омытые влажным весенним воздухом, завораживающие глаз дали, прозрачные воды рек, кристальную чистоту высветленного неба или легкую подвижность облаков. Идеальной гармонии мироздания соответствовали спокойные, ясные по пропорциям и строгие по очертаниям архитектурные фоны, придающие композициям Пьеро делла Франческа четкую симметрию и согласованную с фигурными группами, логически соотнесенную с пропорциями человеческой фигуры пространственность.
Большое значение как для развития умбрийской школы, так и для Рафаэля-художника имели опыты Пьеро делла Франческа в области цвета, его взаимодействия с освещением и окружающим предметы воздухом. Как во фреске, так и в живописи маслом Пьеро делла Франческа учитывал изменение окраски предметов в зависимости от освещения, изучал интенсивность цвета по мере удаления предмета от глаза, то есть ставил проблемы воздушной перспективы, подхваченные и развитые Леонардо. Основной целью художника была максимальная оптическая убедительность изображения, его пространственная и пластическая достоверность, достигнутые не за счет чрезмерного усиления рельефности предметов, а за счет взаимодействия цвета и света, данного в тончайших модуляциях.
Рассматривая истоки творчества Рафаэля и особенности его формирования как художника, хотелось бы упомянуть ученика Пьеро делла Франческа, Мелоццо да Форли, которого особо почитал отец Рафаэля. Мелоццо да Форли был придворным живописцем папы Сикста IV. Он прожил долгую жизнь, но время сохранило лишь немногие из его произведений. Среди них хотелось бы упомянуть фреску в Ватиканской пинакотеке «Учреждение Ватиканской библиотеки папой Сикстом IV», на которой папа, окруженный своими родственниками, принимает коленопреклоненного папского библиотекаря Платину. В ней интересны два момента, подхваченные и развитые в дальнейшем Рафаэлем: это великолепные, если не сказать блистательные, по сжатой характеристике портреты самого папы и его окружения и архитектурный фон. Величественная, монументальная, классическая по пропорциям архитектура формирует пространственное окружение фигурной группы и составляет с ней нерасторжимое целое. Не случайно А. Бенуа писал, что «если чем обязан Рафаэль своей родине, так это пониманием архитектурной красоты и поразительным знанием перспективы».
Уроки Пьеро делла Франческа и Мелоццо да Форли скажутся не сразу. Только в период работы над росписями ватиканских станц, парадных апа/a/pртаментов папы Юлия II, Рафаэль смог достойно реализовать опыт, полученный им при знакомстве с искусством этих художников.
Перуджа
В 1500 году, в семнадцать лет, Рафаэль прибыл в Перуджу, где поступил в мастерскую Пьетро Перуджино, в те годы ведущего представителя умбрийской школы. Впо лне возможно, что Рафаэль вошел в боттегу (мастерскую) Перуджино не как ученик, а как помощник. В 1500 году Перуджино заканчивал роспись зала Совета в Колледжо дель Камбио (биржа) в Перудже, и отдельные исследователи называют имя Рафаэля в числе тех, кто помогал ему в этой работе (документально участие Рафаэля в росписях в Камбио пока еще не доказано).
Составитель программы росписи зала Совета, ученый-латинист, профессор университета в Перудже Франческо Матуранцио следует сложившейся в период кватроченто гуманистической традиции: для олицетворения основных гражданских добродетелей, которыми должен руководствоваться государственный муж при свершении правосудия — Справедливости, Умеренности, Мудрости, Терпимости, Твердости и Беспристрастности, он использует античную мифологию, обращаясь к образам античных богов, героев, легендарных царей и полководцев, а также библейских пророков и сивилл. Для того, чтобы зритель не ошибся в индентификации персонажей и правильно «прочел» заложенный во всем цикле росписей смысл, фигуры сопровождаются надписями, идущими по нижней кромке композиций, и нравоучительными стихами, в которых Матуранцио продемонстрировал весь блеск своей классической эрудиции. Цикл в Камбио важен не только как характерный памятник культуры того времени, ностальгически обращенной к античности, но и как прообраз
того единения языческих и библейских образов, христианских и античных идей, которое составит одну из примечательных особенностей росписей Рафаэля в Станце делла Сеньятура.
Фрески в Камбио имеют несомненные декоративные достоинства, в них проявилось свойственное Перуджино блестящее дарование колориста, умение соединить в едином ритме плавные линии силуэта фигур и очертания пейзажа, дающего ощущение не только глубины пространства, но и формирующего гармонию мироздания, чувство идеального равновесия, разлитого в мире.
Расцвет творчества Пьетро Вануччи, прозванного Перуджино, падает на 1480—1490-е годы. Когда Рафаэль пришел в его мастерскую, художник был в зените своей славы, все лучшее было им уже создано.
Основные достижения Перуджино-живописца связаны с решением проблемы единства человека с его архитектурным или пейзажным окружением, с поисками не только их композиционного объединения, но и с попытками создать единую эмоциональную среду, созвучную человеку и раскрывающую его внутреннее состояние. Перуджино — мастер создания особой, проникновенной, располагающей к спокойному созерцанию атмосферы поэтической благостности, не омраченной трагическими или драматическими переживаниями. Пространство — свободное и просторное окружение человека — приобретает в произведениях Перуджино первостепенное значение. По чистоте ритмических соотношений между человеком и архитектурой, между фигурами и пейзажной средой он достигал
почти абсолютного созвучия («Явление богоматери святому Бернарду», ок. 1494, МО «Сикстинской мадонне» можно сказать, что она словно соткана из нарушений канона. В ее композиции неправильности в построении перспективных смещений удивительным образом разрешаются психологически выверенной динамикой ракурсов. Направление взглядов Сикста II, Варвары, херувимов, изображенных внизу, в своем пересечении устраняют деление на передний и задний планы. Действие, запечатленное рукой Рафаэля, обособляется от законов логического восприятия.юнхен, Пинакотека; триптих «Распятие», 1496, Флоренция, церковь Санта Мария Маддалена деи Пацци). Однако к 1500 году искусство Перуджино лишилось потенции к развитию. Поэтому несмотря на то что художник умер в 1523 году, на три года пережив своего гениального ученика, его творчество осталось за пределами классического стиля зрелого Возрождения. Вместе с тем простота и ясность, внесенные Перуджино в искусство композиции, есть те качества, которые открыли дорогу классическому стилю зрелого Возрождения. Последовательный и творческий интерес к проблемам пространства, использование масляной техники для придания большей воздушности и прозрачности пейзажным далям, острая характерность портретных образов, пристальное вглядывание в модель, тонкая эмоциональность, хрупкая поэтичность женских образов — вот то, что смог передать Перуджино своему ученику.
Еще со времен Вазари ранний период творчества Рафаэля справедливо называют «перуджиновским» и отмечают сильную зависимость молодого художника от учителя. «Изучив манеру Перуджино,— писал Вазари,— он подражал ей настолько точно и решительно во всем, что его копии невозможно было отличить от оригиналов… и нельзя было установить никакой разницы между его вещами и вещами Пьетро».
Ранние рисунки Рафаэля, выполненные им в 1500—1504 годах, свидетельствуют о том, что он воспринял не только формальный язык и образный строй живописных произведений Перуджино, но и унаследовал от него «любовь к внимательной проработке в подготовительных рисунках всей живописной композиции, в целом и по частям» (В. Н. Гращенков).
К шедеврам раннего Рафаэля относятся «Мадонна Конестабиле» (ок. 1500—1502, Ленинград, Государственный Эрмитаж) и «Обручение Марии» (ок. 1504, Милан, Пинакотека Брера).
«Мадонну Конестабиле» (это название картина получила позднее по имени одного из владельцев) Рафаэль написал, когда ему было около 20 лет. В этом произведении молодого художника уже в полной мере раскрыты основные качества его поэтического гения — способность почувствовать и воплотить в знакомых и понятных зрителю образах высшую закономерность природного бытия, гармонию отношений человека и мира, настроя его души и «музыки сфер».
Гармоническое созвучие мироздания раскрывается через ясную согласованность и композиционную уравновешенность всех компонентов картины, ритмическая организация которой подчиняется основному мотиву круга. В «Мадонне Конестабиле» много милой непосредственности, наивной восторженности, тихой, как бы зачарованной грусти. Душевную чистоту юной богоматери, трепетность ее материнского чувства художник сравнивает со свежестью прозрачного весеннего пейзажа, неподвижностью зеркальной поверхности водной глади, голубизной далеких гор и высокого неба, хрупкостью изящных деревьев с небольшими ажурными кронами. Рафаэль нашёл свой простой и ясный путь постижения идеального порядка вещей.
 Обручение Марии. Ок. 1504 года.
Обручение Марии. Ок. 1504 года.
Примерно между 1503 и 1504 годами по заказу семейства Альбиццини Рафаэль написал для церкви Сан Франческо в небольшом городке Читта ди Кастелло алтарный образ «Обручение Марии»— произведение, которое достойно завершило ранний период его творчества.
В композиции «Обручение Марии» «все приведено к «золотой мере» (А. Бенуа), в ней нет ничего, что отвлекало бы внимание от главной группы Марии и Иосифа. Архитектурная декорация (сокращающиеся в перспективе плиты мощеной площади, Иерусалимский храм)— уже не просто организующий пространство фон, как у Перуджино в его «Обручении Марии» (Кан, Городской музей) или в «Передаче ключей апостолу Петру» (Ватикан, Сикстинская капелла), а наиважнейшая основа всей композиции.
Идеальный центрический храм второго плана — поистине удивительное творение архитектурного гения Рафаэля. Очертания его купола и изящные пологие дуги арок открытой галереи повторяют плавную линию полукруглого обрамления рамы, храм организует пространство, вносит гармонию в композиционное решение.
В «Обручении Марии» сказались внимательное изучение Рафаэлем искусства Перуджино, особенно его произведений и рисунков 1490-х годов, а также интерес к творчеству Франческо Франча, с которым Рафаэль встречался в Болонье (любопытные аналогии прослеживаются с работами Франча в Оратории св. Цецилии). Однако, повторяя отдельные мотивы Перуджино или Френча, молодой художник значительно отходит от своих старших современников в понимании прекрасного.
Рафаэль, о чем свидетельствуют уже самые ранние его произведения, обладал врожденным даром проникновения в сущность красоты, которая раскрывалась в гармонии пространственных соотношений, чистоте музыкальных линейных ритмов и в грации. При знакомстве с картинами и фресками Рафаэля создается впечатление легкости, свободы и изящной непринужденности их исполнения.
Флоренция
В 1503 году Перуджино перебрался со своей мастерской во Флоренцию, куда следом за ним осенью 1504 года приехал Рафаэль. Во Флоренции Рафаэль ищет новых творческих впечатлений для дальнейшего развития своего искусства. Рамки умбрийской школы стали ему тесны. Как образно заметил А. В. Вышеславцев, «подобно пчеле, он собирает свой мед там, где его находит, не утрачивая своей собственной самобытности».
1504 год был одним из наиболее значительных в истории искусства Флоренции. Уже были созданы или близились к завершению статуя «Давид» (Флоренция, Академия), «Мадонна Дони» (Флоренция, Галерея Питти) и картон «Битва при Кашине» (не сохранился) Микеланджело; «Мона Лиза (Джоконда)» (Париж, Лувр), картоны «Мадонна со св. Анной» (Лондон, Национальная галерея) и «Битва при Ангиари» (не сохранился) Леонардо да Винчи. Творческий импульс, полученный еще в пору экспериментаторских увлечений кватроченто, продолжал жить в творчестве лучших художников Флоренции, сохранившей за собой право называться кузницей нового искусства.
Изучение этого искусства стало незаменимой школой для Рафаэля. Среди его рисунков флорентийского периода сохранились свободные зарисовки с фресок Джотто и Мазаччо, со скульптурных произведений Донателло, с картонов Микеланджело и Леонардо да Винчи. По ним можно судить о направлении интересов Рафаэля. У Микеланджело он воспринял пластическую выразительность изображенной в сложном ракурсе человеческой фигуры, драматизацию сюжета, его героическую трактовку. У Леонардо да Винчи — тончайшую световоздушную моделировку объёма лёгкой светотенью. Последовательный интерес Леонардо к постижению законов воздушной перспективы и естественно вытекающая из него увлеченность пейзажем оказались близки Рафаэлю.
Как никто другой, Рафаэль умел быстро схватывать и творчески перерабатывать сторонние влияния, из многих манер создав «единую, которая… всегда считалась его собственной… и которую художники всегда бесконечно высоко ценили и будут ценить» (Дж. Вазари). Как верно заметил в свое время А. Бенуа, Рафаэль «в течение всей своей жизни… был учеником, пытливо изучавшим всякую новость, все примечательное и сильное, что ему попадалось на пути».
Во Флоренцию Рафаэль приехал с рекомендательным письмом сестры урбинского герцога Гвидобальдо к гонфалоньеру Флорентийской республики Пьетро Содерини. Но поддержки у него не нашел и вначале скромно общался с теми, кто был близок Перуджино: Лоренцо ди Креди, Фра Бартоломмео, молодым Андрее дель Сарто. Благодаря Перуджино Рафаэль сблизился с флорентийским архитектором и строителем Баччо д’Аньоло, в мастерской которого собирались живописцы, скульпторы и зодчие Флоренции. Здесь молодой Рафаэль встречался с архитекторами Кронаком, когда-то другом Савонаролы, Джулиано и Антонио да Сангалло, со скульптором Андрее Сансовино и живописцами Граначчи, Ридольфо Гирландайо и Бастиано да Сангалло. В доме Баччо д’Аньолы он познакомился со своим будущим покровителем Таддео Таддеи, для которого написал двух мадонн. Возможно, что Перуджино свел Рафаэля со своим соучеником по мастерской Верроккьо, а теперь знаменитым художником Флоренции — Леонардо. Судя по многочисленным рисункам этого периода, Рафаэль не просто заимствовал то, что было уже сделано его предшественниками, а изучал законы, которым они следовали в своем искусстве.
Среди тех, с кем Рафаэль познакомился во Флоренции, он особенно близко подружился с Фра Бартоломмео — одним из значительных мастеров классического стиля зрелого Возрождения. Фра Бартоломмео известен как мастер репрезентативной, величественной алтарной картины. Он был блестящим рисовальщиком. Значительными были его достижения и в натурной штудии, и в компоновке пейзажного мотива, и в композиционном эскизе. Знакомство с искусством Фра Бартоломмео имело большое значение в обращении Рафаэля к различным вариантам композиции «Святого семейства». Так, всецело в сфере влияний Фра Бартоломмео находится незаконченная картина «Мадонна под балдахином» (Флоренция, Галерея Питти), которую Рафаэль взял с собой в Рим.
За четыре года (не считая поездок то в Перуджу, то в Урбино) пребывания во Флоренции Рафаэль создал своих знаменитых мадонн («Мадонна Грандука», Флоренция, Галерея Питти; «Мадонна со щегленком», Флоренция, Галерея Уффици; «Прекрасная садовница», Париж, Лувр; «Мадонна с безбородым Иосифом», Ленинград, Государственный Эрмитаж), образы которых на долгое время сковали воображение художников, неукоснительно следовавших в предложенном Рафаэлем направлении.
Во флорентийских мадоннах Рафаэля сохранились мягкая задушевность образов, тонкий лиризм пейзажных фонов его умбрий-ского периода, но исчезли былая хрупкость, прозрачность и ажурная легкость пейзажных мотивов, некоторая дробность линейного ритма. Его фигуры стали тяжелее, в них сильнее выявлена пластика тела, особенно упругих, пухлых младенцев, сложнее стало взаимодействие фигур в пирамидальной композиции группы. Его мадонны вполне светские женщины, мило и грациозно играющие с детьми. В них нет святости, нет налета ортодоксальной церковности, присущей произведениям Фра Бартоломмео. Это чарующие «живописные сонеты» (А. Бенуа) с идеальными ритмическими соотношениями, не утратившие при этом обаяния непосредственности и живой правды.
К флорентийскому периоду относятся и первые портреты Рафаэля — парные портреты супругов Анджело и Маддалены Дони (ок. 1506, Флоренция, Галерея Питти), написанные спустя три года после их свадьбы. Обладая исключительным даром портретиста, Рафаэль умел почувствовать и передать индивидуальные особенности модели и в то же время раскрыть в конкретном человеке черты идеального типа. Портрету Анджело Дони близок по композиции «Портрет молодого человека» (Будапешт, Музей изобразительных искусств), который часто связывают с именем поэта, друга Рафаэля по Урбино, Пьетро Бембо. В портрете Маддалены Дони Рафаэль повторил композицию леонардовской «Джоконды». Та же спокойная поза сидящей на фоне пейзажа фигуры, рука, покоящаяся на подлокотнике кресла— и все же какая разница! Мона Лиза таит в своем облике возможность развития, в ней есть вневременной момент, побуждающий к динамике восприятия: скользящая улыбка, легкая дымка прозрачного, зыбкого сфумато, туманные дали уходящего в бесконечность пейзажа. В Маддалене Дони Рафаэля, напротив, все ограничено конкретностью момента, постоянством облика модели. Даже пейзаж выглядит много скромнее и проще. Однако именно портрет Маддалены Дони породил множество повторений. Перед нами проходит длинная череда вполне добротных, но прозаических портретов флорентинок, в которых есть написанные с величайшей тщательностью детали нарядных туалетов, но нет таинства богатой души, нет трепетности чувства и обаяния женственности.
 Положение во грод.
Положение во грод.
Флорентийский период завершил алтарный образ «Положение во гроб» (Рим, Галерея Боргезе), в котором с наибольшей силой отразились новые художественные впечатления Рафаэля. Он был заказан художнику Аталантой Бальони в память о погибшем в кровавых семейных междоусобицах сыне Грифонетто. «Положение во гроб» предназначалось для семейной капеллы Бальони в церкви Сан Франческо аль Прато в Перудже. Перед Рафаэлем стояла трудная задача — написать алтарный образ, созвучный настроению матери, потерявшей сына.
Первоначально художник обратился к традиционной теме «Оплакивания», избрав как образец произведение Перуджино на ту же тему («Оплакивание», 1495, Флоренция, Галерея Питти). Постепенно, от эскиза к эскизу, Рафаэль отошел от традиционного решения темы и обратился к ее более драматической трактовке. Он пытался соединить могучие формы и драматизм искусства Микеланджело с характерными для умбрийской школы пейзажными мотивами и лиризмом женских образов. В результате получилось одно из самых негармоничных произведений Рафаэля. Столь быстрый, стремительный разрыв с камерными мадоннами и общим поэтическим строем его искусства не обошелся без потерь. Композиция утратила ту простоту и естественность, которые отличали большинство произведений раннего Рафаэля. Героическая трактовка темы вылилась в искусственный драматический пафос, основанный на контрастном противопоставлении лишенной движения группы Марии и могучего, напряженного порыва мужчин, несущих тело мертвого Христа. Рафаэль в полной мере осознал свою неудачу. Не случайно впоследствии он избегал подобного рода эффектной драматизации.
В 1507 году художник ненадолго вернулся в Урбино, где пробыл при дворе урбинского герцога примерно около полугода в надежде получить большой заказ на фресковую живопись, о котором страстно мечтал. Здесь Рафаэль сблизился с окружением герцога Гвидобальдо и его жены Елизаветы. Здесь же завязалась дружба с венецианским патрицием, историком, гуманистом, автором знаменитых «Азоланских нимф» Пьетро Бембо; с секретарем Джованни Медичи (позднее папа Лев X), литератором, автором известной пьесы «Каландрия» Бернардо Довици Биббиеной, которая продолжалась и в Риме. В свой последний приезд в Урбино Рафаэль много общался с Бальдассаре Кастильоне — блестящим дипломатом, поэтом и писателем, человеком всесторонней гуманистической образованности.
Круг дружеских привязанностей Рафаэля сложился в основном в Урбино, где сходились как бы две нити закулисных интриг: одна—идущая от Юлия II, другая — связанная с представителями семьи Медичи. Однако дело не только в чисто внешних, светских общениях. Важнее другое — тот духовный микроклимат, та атмосфера любви к литературе, поэзии, древней истории, то почтительное отношение к искусству, которые были свойственны кругу близких к художнику лиц.
Сам род их занятий, широта кругозора, преклонение перед величием национального прошлого, интерес к судьбам Италии как бы отражали гуманистическую веру в достоинство человека и его неограниченные творческие возможности.
Рим
В 1508 году Рафаэль, как пишет Вазари, по протекции своего друга, а по другим источникам — родственника, главного архитектора Ватикана Донато Браманте, входившего в число немногих близких друзей папы, был приглашен Юлием II в Рим для росписи парадных апартаментов в старом Ватиканском дворце. С этого времени начинается новый этап творчества Рафаэля, отмеченный небывалым взлетом его артистической карьеры — от узкого круга поклонников таланта молодого, обаятельного, подающего надежды умбрийского художника к вершинам славы и всеобщей известности.
Из относительно тихой, замкнутой жизни урбинского двора, до поры до времени не затронутого бурными политическими и военными событиями тех лет, Рафаэль попал в эпицентр общеитальянских дел, вплотную соприкоснулся с папской курией, близко познакомился с «политической кухней» римских духовных владык. Однако события современной общественной жизни почти не отразились в его искусстве, кажется, что его не коснулись противоречия и глубокие, драматические конфликты эпохи. В нем сохранились гармоническая целостность восприятия мира, равновесие и устойчивость отношений человека и макрокосма, идеальная завершенность сотворенного фантазией художника мира искусства.
Даже не верится, что созданные Рафаэлем произведения были современны потрясавшим тогда Италию и особенно Рим военным авантюрам Юлия II, его неутомимой деятельности по собиранию земель вокруг Папской области, упорному единоборству сначала с могущественной Венецией, а затем и с Францией. Всеми силами своей воинственной и деятельной натуры Юлий II стремился восстановить и укрепить могущество папского престола. По темпераменту он походил скорее на императора с мечом, чем на первосвященника с жезлом. Не случайно Джулиано делла Ровере, кардинал Сан Пьетро ин Винколи, вступив на папский престол, принял имя Юлия в честь Юлия Цезаря, которого особенно почитал.
Военные победы и неудачи, политические интриги, каверзные ловушки и дипломатические уловки сиятельных противников, радость победителей и трагедия побежденных, обогащение одних и разорение других, высокие помыслы, утопические надежды и драматические противоречия реальности — вот тот исторический фон, на котором протекала внешне благополучная творческая судьба Рафаэля.
Рафаэль попал в Рим в период необыкновенного общественного и культурного подъема, когда казалось, что возродилось могущество Италии, а величие римской церкви достигло своего апогея. Именно это ощущение новизны, открытых возможностей породило тот творческий энтузиазм,благодаря которому были созданы великие творения художественного гения Микеланджело и Рафаэля.
Во времена правления Юлия II и Льва X Рим стал ведущим центром культурной жизни Италии. Вокруг папского двора собрались лучшие поэты, музыканты, композиторы, ученые-гуманисты и художники того времени. Уклад жизни Вечного города носил ярко выраженный светский характер. Папа, высшее духовенство, крупные банкиры, старая римская знать и новая аристократия — все соревновались друг с другом в возведении и украшении городских дворцов и загородных вилл, в строительстве семейных капелл, алтарные образы для которых писали ведущие римские художники, в покровительстве литературе, наукам и искусству, в коллекционировании предметов древности.
Грандиозные планы Юлия II по перестройке, обновлению и украшению папской резиденции — Ватикана привлекли в Рим лучшие художественные силы Италии. Помимо Браманте (с 1499 г.), Микеланджело (с 1505 г.) и Рафаэля (с 1508 г.), ведущих мастеров римской школы начала века, здесь работало много первоклассных художников и архитекторов, внесших заметный вклад в сложение искусства зрелого Возрождения, в котором как бы подводились итоги предшествующему развитию итальянской гуманистической культуры и открывались новые горизонты.
В первые десятилетия века в Риме работали флорентийские скульпторы Андреа (с 1505 г.) и Якопо (с 1503 г.) Сансовино, архитекторы Джулиано да Сангалло, друг Микеланджело, и его племяник Антонио де Сангалло Младший (с 1503 года в мастерской Браманте) живописец и архитектор Бальдассаре Перуцци (с 1503 г.), живописец из Сиены Джованни Антонио Бацци, прозванный Содома за необычные причуды и странные пристрастия (работал в мастерской Рафаэля), живописец, мастер архитектурной декорации Бартоломео ди Альберто Суарди, прозванный Брамантино, венецианские художники Лоренцо Лотто (в 1508—1509 гг.) и Себастьяно дель Пьомбо (с 1511 г.). Круг перечисленных художников можно значительно расширить за счет молодежи — учеников и помощников Рафаэля: Джулио Романо, Франческо Пенни, Джованни да Удине и др., а также тех мастеров, которые ненадолго приезжали в Вечный город, чтобы соприкоснуться с живым наследием античности, почувствовать пульс современности, воспринять самый дух новой культуры.
В начале XVI века в Риме сложилась классическая по своей направленности гуманистическая культура, первые ростки которой относятся к XV веку и связаны с правлением Пия II, Николая V и Сикста IV, особенно последнего. Ее отличительными особенностями были примирение светских, языческих образов с христианскими, последовательное утверждение идеала совершенной личности, существующей в гармоническом согласии с мирозданием. В некотором смысле римская культура первых двух десятилетий XVI века была утопична, так как основывалась на зыбком фундаменте идеалистического, а поэтому чрезвычайно непрочного альянса язычества и христианства, светской и церковной культуры. Непрочность этого основания гуманистической культуры Рима сказалась уже в начале 1520-х годов, отмеченных сильным духовным брожением, отдельные проявления которого, по существу, были направлены против гуманизма. Кроме того, климат папской курии, занятой более делами мирскими, чем духовными, создавал условия формирования светской придворной культуры, замкнутой границами элитарной группы потребителей искусства из числа высшего духовенства и мирян. Последнее сыграло определенную роль и в изменении социального статуса художника, который из свободного творца превратился в придворного.
В римский период творчества Рафаэль отказался от камерности своих ранних умбрийско-флорентийских произведений. Язык его искусства приобрел иную тональность, стал более величественным и классически уравновешенным, то есть приобрел те качества, которые позволили Гёте написать, что «Рафаэль нигде не подражает грекам, но чувствует, думает и действует, как древний грек!».
Облик Вечного города, самый его воздух, напоенный ароматами античности, вновь открывшейся взору современников Рафаэля, оказал на молодого художника сильнейшее эстетическое воздействие и определил характер и масштаб всего его дальнейшего творчества.
Историческое прошлое Вечного города придавало его облику особое очарование, позволяло соприкоснуться с величием ушедшей в прошлое римской культуры. Знакомство с античными руинами древнего Рима, часто заброшенными и таинственными в своём диком запустении, с пока еще редкими произведениями античной пластики, найденными в начале века в римской земле, оказало собое, если не определяющее, воздействие на формирование нового формального словаря зрелого и внутренне цельного искусства Рафаэля римского периода. Именно античный Рим «напоил его душу чудотворной силой, неугасаемой славой своего великого прошлого, укрепив гений его образами, восставшими из мрака истории, очаровав величием своей природы и красотою памятников» (А. В. Вышеславцев).
Римская античность кардинально изменила масштаб творчества Рафаэля, способствовала более полному раскрытию заложенных в нем возможностей. «Если бы Рафаэль,— писал М. Дворжак,— умер до того, как перебрался в Рим, то его… относили бы в наши дни к числу наиболее приятных мастеров умбрийско-флорентий-ской школы… Лишь Вечный город положил начало его большому стилю и универсальному значению его творчества».
Характер искусства Рафаэля 1508—1520-х годов в полной мере отвечал эстетическим потребностям времени и соответствовал идеальным устремлениям зрелой ренессансной культуры в период ее наивысшего расцвета. Реальное и идеальное приходят в его искусстве к взаимному равновесию, конкретное и типическое соединяются в нем, образуя классическую гармонию. Эта гармония нашла выражение в ритмическом строе произведений, в благородной согласованности элементов его композиций, в естественности и звучности колорита.
В основу нового живописного стиля был положен характерный для ренессансной эстетики чинк-веченто тезис —«превзойти натуру», который подразумевал синтез реального впечатления от действительности с идеальными представлениями о совершенстве. Искусство стало не инструментом познания действительности, а средством создания идеального мира, «противопоставленного природе в качестве более высокой поэтической и художественной реальности» (М. Дворжак). Совершенство человека и мира, к которому тщетно, но настойчиво стремился век гуманизма, нашло свое наиболее полное воплощение в творениях Рафаэля. Духовное благородство человеческой натуры, чистота помыслов и возможность возвышающих человека свершений, свобода и чувство собственного достоинства — вот те качества, которые воплотил художник в созданных его творческим воображением образах.
Римский период был самым насыщенным и плодотворным в творческой жизни художника. На протяжении двенадцати лет Рафаэль создал огромное количество произведений, каждого из которых было бы достаточно для его бессмертия.
Рафаэль обладал исключительной, почти невероятной работоспособностью. К своим тридцати семи годам он успел сделать столько, сколько не всякий художник может создать за долгую жизнь: частично расписал ватиканские станцы, руководил живописными работами в вилле Фар-незина и Лоджиях Ватикана, создал картоны для заказанных Львом X ковров, выполнял многочисленные заказы частных лиц и религиозных общин, в том числе портреты и алтарные картины. После смерти Браманте в 1514 году Лев X назначил Рафаэля главным архитектором на строительстве нового собора св. Петра, в качестве комиссара древностей он занимался охраной и переписью памятников древнего Рима.
В середине 1510-х годов мастерская Рафаэля непомерно разрослась; она стала самой крупной и наиболее значительной в Риме — центром притяжения творческих сил. В числе его преданных учеников и верных друзей были лио Романо, Перино дель Вага, Франческо Пенни, Джованни да Удине. Мягкость, терпимость и доброжелательность Рафаэля способствовали такому творческому объединению художников, которое «возникло только при нем и уже больше никогда не повторялось. А случилось это потому, что все они в конце концов оказались побежденными его лаской и его искусством, но больше всего добрым гением его натуры». В жизнеописании Вазари, в записях историка-гуманиста, знатока и поклонника искусства Паоло Джовио, в письмах Бембо и Биббиены Рафаэль предстает как деятельный организатор, художник, находящийся в неустанном поиске, человек с неиссякаемым любопытством к познанию. Так, Вазари пишет о том, что Рафаэль содержал «рисовальщиков по всей Италии, в Поццуоло и даже в Греции и не находил себе покоя, пока не соберет все то хорошее, что могло бы пойти на пользу его искусству».
Археологические увлечения Рафаэля активизируются в 1510-е годы, когда он специальным папским бреве (указом) от 1 августа 1514 года был назначен главным архитектором собора св. Петра. До этого времени Рафаэль специально не занимался архитектурой, если не считать великолепных архитектурных фонов на его картинах и фресках, а также немногих архитектурных работ начала 1510-х годов — строительство небольшой церкви Сант Элиджио дельи Орефичи (1509 г.) и капеллы Киджи в церкви Санта Мария дель Пополо (начата в 1512 г.). Со всей ответственностью восприняв возложенную на него задачу, художник взялся за изучение античных архитектурных трактатов, в первую очередь за изучение Витрувия. В письме к Кастильоне он писал: «Мысль моя взлетает все выше. Я хочу обрести прекрасные формы древних построек, но не знаю, не будет ли взлет мой полетом Икара. Ярким светочем служит мне Витрувий, но его мне недостаточно».
Трактат Витрувия был известен еще в начале XV века, но первое его печатное издание увидело свет в 1 511 году. Его осуществил и дополнил своими рисунками ученый монах, архитектор и инженер Фра Джокондо, назначенный Львом X в наставники к Рафаэлю по строительству собора. Плохо владея латынью, Рафаэль попросил своего друга, гуманиста Марко Фабио Кальво, перевести «Десять книг об архитектуре» Витрувия на итальянский язык. Кальво некоторое время жил в доме художника. Общение с ним, как и работа бок о бок с Фра Джокондо, имели большое значение для формирования Рафаэля-архитектора, обогащая его не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.
Не менее важным, если не более знаменательным для прояснения художественных устремлений Рафаэля, было его увлечение римской археологией. Расчетливый в деньгах, когда дело не касалось его развлечений, Лев X стремился сэкономить на материалах для постройки собора св. Петра. Он приказал использовать с этой целью мрамор и камни, добытые из античных развалин. Чтобы это мероприятие не превратилось в варварское расхищение и уничтожение древних строений, он назначил Рафаэля главным смотрителем «всех мраморов и других камней, которые впредь будут вырыты в Риме и его округе» (папское бреве от 27 августа 1515 года).
Запустение и хаос, царившие в древних районах города, безжалостное уничтожение античных памятников Рима, вызванное еще и тем, что предприимчивые горожане использовали старый мрамор для переработки его в известь, настолько потрясли Рафаэля, что он загорелся идеей восстановления первоначального облика древних, самых прославленных зданий Вечного города, в мечтах своих воспаряя еще дальше — к возрождению первозданной красоты античных районов Рима. С этой целью он производит раскопки, делает обмеры, зарисовки памятников, их описание, часто сопровождая их планами. По существу, Рафаэль одним из первых разработал методы фиксации памятников древности, вернее, систематизировал то, что интуитивно делали до него многие художники и архитекторы. Однако до Рафаэля эта деятельность не была сосредоточена в одних руках, а носила спонтанный, нерегулярный характер.
От археологической деятельности Рафаэля сохранился очень интересный документ: два варианта письма, а вернее, докладной записки, составленной для Льва X. Авторство письма долгое время было предметом научных споров: одни приписывали его Браманте, другие — Бальдассаре Кастильоне, третьи — Рафаэлю. Сейчас принято считать, что письмо было написано Рафаэлемв8 последний период его жизни и, возможно, литературно подправлено Кастильоне.
Нам, далеким потомкам Рафаэля, близки и понятны его взволнованные слова о настоятельной необходимости и гражданском долге каждого сохранить и сберечь то, что осталось от ушедшей в прошлое культуры, что, как отдаленное эхо, доносит голос истории. Он писал: «…я ревностно изучал… древности и приложил немалое старание к тому, чтобы исследовать их и измерить их весьма тщательно; постоянно читая хороших писателей и сравнивая произведения с их описаниями, я приобрел… некоторые сведения об античной архитектуре. Это познание столь замечательной области причиняет мне и величайшее удовольствие, и в то же время величайшую боль, когда я созерцаю как бы труп благородного города моей родины, который был некогда столицей мира, а ныне растерзан столь жалким образом. И поскольку уважительное отношение к родителям и родине есть долг каждого, то я считаю себя обязанным напрячь все мои… силы, чтобы насколько возможно сохранить живым облик или хотя бы тень того города, который поистине есть общая родина всех христиан и который некогда был так пышен и могуществен». Художник с горечью восклицает: «Я не могу вспомнить без глубокого сострадания, сколько прекрасных вещей было разрушено за то время, пока я в Риме… и поистине можно… сказать, что Ганнибал был еще милостивее других!»
Рафаэль не дождался осуществления своей мечты. Причиной тому была не только его ранняя смерть. В то время идеи художника были по меньшей мере утопичны: не было ни возможностей, ни культурных предпосылок для их осуществления. В своих проектах реконструкции и сохранения памятников Рима Рафаэль смотрел в будущее.
О частной жизни Рафаэля, его увлечениях и развлечениях, его отношениях с друзьями, помощниками, коллегами и заказчиками известно немного, гораздо больше легенд, с ними связанных. Еще при жизни вокруг личности художника возник ореол славы и всеобщего поклонения. Уже Вазари, жизнеописание которого положило начало многим последующим легендам о Рафаэле, видел в нем и в его образе жизни идеал художника-придворного. Одаренного, живущего в роскоши и богатстве человека, который умеет вести себя в обществе, поддерживать ученую беседу, обладает приятной наружностью и утонченными манерами, окружен любовью и всеобщим почитанием. В одном из пассажей своих жизнеописаний Вазари пишет о том, что Рафаэль от природы был одарен той скромностью и добротой, которые «нередко обнаруживаются у тех, у кого некая благородная человечность их натуры больше, чем у других, блистает в прекрасной оправе ласковой приветливости, одинаково приятной и отрадной для любого человека и при любых обстоятельствах».
Судьба благоприятствовала Рафаэлю: в Риме он нашел сильных и. могущественных покровителей. Поклонником его таланта был Юлий II. После смерти Юлия II Рафаэль выполнял заказы Льва X (стал папой в 1513 году), который, как все Медичи, считал себя знатоком и покровителем искусства. Пользуясь дружеским расположением этого хитрого, любящего праздничный блеск и суету, не забывавшего жизненные удовольствия папы, художник стал ведущей фигурой культурной жизни Рима, организатором и исполнителем живописных и ахитектурных работ в Ватикане. Однако после смерти Юлия II многое изменилось в Вечном городе — ушла активность духовных поисков, творческая дерзость сменилась требованиями «хорошего вкуса», инициатива — осторожностью и умеренностью, художественная свобода в выражении высоких идей и в осмыслении законов мироздания выродилась в ученый педантизм, археологическую точность и эстетствующую схоластику литературных критиков. Новый папа потребительски относился к таланту Рафаэля, непомерно загружая художника всякого рода работами: картоны для ковров, росписи в ватиканских станцах и в лоджии второго этажа дворца Сан Дамазо в Ватикане, оформление праздников, театральных представлений, увеселительных прогулок, строительство собора св. Петра, археологические раскопки и т. д. Такая растрата сил приводила к постепенному опустошению и творческой пассивности, порождала определенную отстраненность художника от его творений, тот холодок, который свидетельствовал о кризисе стиля Рафаэля в конце 1510-х годов. Только в портретах художник чувствовал себя по-прежнему свободно.
Живя в Риме, Рафаэль на равных общался с видными писателями, поэтами и мыслителями своего времени. Постоянными были его контакты с просвещенным высшим духовенством и богатейшими людьми Рима. Здесь укрепились прежние урбинские связи. Среди его близких друзей остался Пьетро Бембо — законодатель поэтической моды начала XVI века, тонкий ценитель искусства, коллекционер, влюбленный в жизнь эпикуреец. Дружеские отношения сохранились у него и с Бернардо Довици Биббиеной, первым человеком в окружении Льва X. Для Биббиены, большого поклонника античности, Рафаэль расписал фривольными сюжетами (история Афродиты и Эроса) из античной мифологии купальню в Ватикане, посмотреть которую допускались немногие, однако слава о языческих образах кардинальской купальни широко разнеслась по Риму. Известно также, что Рафаэль написал портрет Биббиены, которого тот долго и настойчиво добивался (портрет не сохранился). Стремясь породниться с первым
художником Рима, Бернардо Биб-биена много лет пытался женить Рафаэля на своей племяннице Марии Довици Биббиена, но кроме обещаний, ничего не добился.
Весьма показательно сообщение Вазари о том, что, желая по достоинству оценить заслуги Рафаэля и хоть как-то покрыть многочисленные ему задолженности, Лев X обещал художнику кардинальское звание. Подобное обещание, данное простому ремесленнику, человеку, не имевшему духовного сана, далеко превосходило все милости, обычно расточаемые художнику, лишний раз свидетельствовало о высоте положения, достигнутого Рафаэлем.
Рафаэль не любил папский двор. Лицемерие, зависть, закулисные интриги отвращали его от курии. Не случайно он сблизился с папским шутом, острословом Фра Мариано, умевшим меткой шуткой обнажить правду, и с просвещенным кардиналом Сансеверино, общение с которым скрашивало его пребывание в курии.
Легендами овеяна дружба художника с сиенским банкиром Агостино Киджи, богатейшим человеком Рима. Первый банкир Вечного города, Агостино Киджи, к кредитам которого обращался сам папа, умел привлечь к себе таланты не только щедрым и бескорыстным покровительством, но и широтой интересов, искренним преклонением перед античностью, ее богатой культурой.
В доме Киджи, где собирался цвет римской интеллектуальной элиты, Рафаэль познакомился с сиенским поэтом и музыкантом
Страскино, учёным-теологом, писателем и гуманистом Садолето, епископом Карпантраским — крупным церковным деятелем при Льве X, секретарем которого он был, и Павле III. Частыми гостями дома Киджи были папский библиотекарь, тонкий знаток греческих и латинских авторов Томмазо Ингирами (его портрет кисти Рафаэля хранится в коллекции Музея Гарднер в Бостоне), уже известный нам историк и гуманист Паоло Джовио, а также видный общественный деятель, человек широких взглядов, активный поборник внутрицерковных реформ Маттео Гиберти, связанный с прогрессивными деятелями того времени.
Двери дома Киджи были всегда гостеприимно открыты и для поэта Блозио Палладио, известного одой, написанной им к чествованию Джулиано Медичи, младшего брата Льва X, на Капитолии, а также шутливой поэмой, в которой со свойственным ему юмором описано творческое содружество художников на вилле Киджи. Верным другом Рафаэля был и поэт Филиппо Бероальдо. Он перевел для Киджи «Золотого осла» Апулея, мифологический сюжет которого лег в основу программы росписи лоджии Психеи в вилле Фарнезина.
Внешне общительный и открытый Рафаэль редко с кем был откровенен и душевно близок. У него был обширный круг знакомых, но мало друзей. К числу немногих близких друзей Рафаэля относились Бальдассаре Кастильоне, которого художник давно знал и искренне любил; Агостино Киджи, для которого он не только расписал залы виллы Фарнезина, но и украсил фресками и мозаикой две капеллы: в церкви Санта Мария дель Пополо, где в 1520 г. был похоронен Киджи, и в церкви Санта Мария делла Паче; его ученики и наследники — Джулио Романе и Франческо Пенни.
С именем Рафаэля связывают двух женщин. Одна из них — романтическая возлюбленная художника, дочь сиенского булочника из Трастевере, известная под именем Форнарина (в ГМИИ им. А. С. Пушкина есть портрет так называемой Форнарины кисти Джулио Романо). Вазари упоминает об одной женщине, которую Рафаэль «любил до самой смерти .и с которой он написал портрет». Эта легенда была особенно популярна в XVII веке и обросла многими романтическими деталями в XIX столетии. К числу несомненных шедевров Рафаэля-портретиста относится серебристо-жемчужный, очень красивый по глубине холодных тонов портрет (возможно, Форнарины) «Дама под покрывалом» (1516, Флоренция, Галерея Питти), в котором художник достиг удивительного сочетания возвышенного душевного благородства и физической красоты. В поэтическом облике «Дамы под покрывалом» много общего с образом Марии в «Сикстинской мадонне» и лицом Магдалины в алтарной картине «Святая Цецилия». О другой женщине мы уже знаем — это племянница Бернардо Биббиены Мария Довици Биббиена, похороненная рядом с Рафаэлем, как его невеста.
Совсем иным было общение Рафаэля с коллегами, с теми художниками, которые так же, как и он, работали в Риме. Успехи папского живописца вызывали вполне понятную зависть у одних и преклонение у других. Вторых было, пожалуй, больше, потому что уже современники признавали превосходство Рафаэля и его лидерство. Вазари особо отмечает его общительность и организаторские способности, умение ладить с теми, с кем ему приходилось работать: «Как только наши художники… начинали какую-нибудь работу совместно с Рафаэлем, так тотчас же они совершенно естественно объединялись и пребывали в таком согласии, что при одном виде Рафаэля рассеивалось любое дурное настроение и любая подлая или злобная мысль вылетала из головы». В этом, как и во многих других пассажах Вазари, есть безусловное преувеличение, определенная программность, заданная характером творимой им легенды. Однако несомненно, что покладистая натура Рафаэля, демократическая манера его общения, безотказность в помощи, постоянный творческий интерес к тому, что делали другие, способствовали объединению вокруг него большой группы мастеров. Примерно к середине 1510-х годов складывается так называемая школа Рафаэля — творчество группы художников, объединенных общим направлением интересов и общим преклонением перед талантом Рафаэля.
В творческом общении с учителем формировалось искусство Джулио Романо, пожалуй, наиболее одаренного и деятельного из помощников мастера. Вместе с Рафаэлем он работал в станцах, особенно в третьей и четвертой комнате, получившей название Зал Константина, на вилле Фарнезина, в лоджиях Ватикана; под руководством учителя писал алтарные картины и портреты, после смертиРафаэля вместе с Пенни заканчивал нижнюю часть композиции «Преображение». Как и многие другие художники, близкие к кругу Рафаэля, Джулио Романо развивал в своем искусстве одну из сторон творчества учителя, утратив целостность и широту его живописной манеры. В искусстве Джулио Романо стала преобладать сюжетная сторона: пестрая вереница языческих богов и богинь, подробный, часто занимательный рассказ мифологической истории заняли место «универсального» охвата явлений, свойственного Рафаэлю. В 1524 году Джулио Романо покинул Рим, чтобы навсегда поселиться в Мантуе при дворе герцога Федериго Гонзаго.
Заметной фигурой в окружении Рафаэля был Франческо Пенни, прозванный Фатторе, так как вел все дела по мастерской учителя. В отличие от Джулио Романо он выглядел скромнее, мягче и спокойнее, а его искусству была свойственна поэтичность, воспринятая от Рафаэля. Вазари пишет о том, что он с охотой и увлечением писал пейзажи и архитектурные фоны. Так же, как и Джулио Романо, Пенни покинул Рим после смерти учителя. В 1527 году он уехал в Мантую к Джулио Романо. Однако их когда-то дружеские отношения заметно усложнились в процессе неравного сотрудничества (Джулио Романо был руководителем всех мантуанских работ). Пенни переехал 8 Неаполь, где, вероятно, и умер.
Несколько в стороне от шумной суеты рафаэлевской мастерской стоял Джованни да Удине, который был на четыре года моложе Рафаэля и первоначальное образование получил, как считают, в Венеции у Джорджоне. Затем по рекомендации венецианского патриция, кардинала Гримани и при поддержке Бальдассаре Перуцци он попал в мастерскую Рафаэля, где обучался писать цветы и плоды у фламандского художника Джованни (видимо, Иоганна Рейша). Пожалуй, не найдется другого такого художника, который бы с таким равным увлечением и любовью, с неиссякаемой фантазией и наблюдательностью, прекрасным знанием своего дела умел изображать животных, птиц, цветы, фрукты и фантастические, изящные гротески (примечательны орнаменты Удине в виллах Фарнезина и Мадама, в росписях лоджии в Ватикане).
Позднее других пришел в мастерскую Рафаэля Перино дель Вага, который оставил заметный след в монументально-декоративной живописи Рима середины XVI века. Росписи Перино дель Вага (зал Паолина в замке св. Ангела) богаты чисто декоративными формами: сотворение средствами живописи новой архитектуры, использование иллюзионистических эффектов, полное пренебрежение границами плоскости, активная динамизация живописного пространства не в глубину, а на зрителя, имитация круглой скульптуры, рельефа, стукка.
В целом же творчество Перино дель Вага являет довольно печальную картину: колоссальный размах живописных циклов, нарочитая сложность композиций, выливающаяся в ненужную аллегорическую перегруженность образного строя, — все эти черты свидетельствовали об определенной «схоластике» формы, ее бессодержательности и «голой» декоративности.
В некотором смысле творчество учеников и помощников Рафаэля было логическим выводом, продолжением и развитием заложенных в его искусстве возможностей. Это позволило М. Дворжаку написать, что «когда… Рафаэля называли основоположником нового искусства, то… подразумевали того художника, который существовал лишь в произведениях своих учеников».
Среди тех, с кем счастливо связала судьба Рафаэля, нельзя не назвать сиенского живописца, архитектора и одного из наиболее изобретательных мастеров театральных декораций Бальдассаре Перуцци. Перуцци был по своему нраву весьма скромным, приветливым и учтивым человеком. Благодаря дружбе и покровительству уже известного нам Агос-тино Киджи он был приглашен Юлием II для росписи парадных папских апартаментов в Ватикане. От этой работы сохранилась только живопись свода в Станце д’Эли-одоро (1511 г.), и то авторство Перуцци многими необоснованно оспаривается.
Пути Рафаэля и Перуцци часто пересекались: вместе они работали в вилле Фарнезина, вместе выступали как театральные декораторы и как архитекторы. Считается, что Рафаэль частично переделал или кое в чем, очень незначительном, изменил проект виллы Фарнезина, выполненный Перуцци для Киджи в 1509— 1511 годах. Вместе они расписывали и комнаты виллы: Рафаэль и его ученики — Зал Галатеи (свод этого зала украшал Перуцци) и лоджию Психеи, а Перуцци — знаменитый Колонный зал, поражающий всех удивительной красотой и свежестью иллюзионистических пейзажей, как бы увиденных в просветах между колонн боковых портиков. «Перспективы» Колонного зала указали один из возможных путей развития иллюзионистически-декоративной живописи, достигшей своего блестящего расцвета позднее, в эпоху барокко.
Многосторонность творческих интересов, страстное увлечение древней архитектурой и археологией сблизили Рафаэля и Перуцци. Этому сближению способствовала и совместная работа над оформлением праздников и театральных постановок. Перуцци был признанным мастером театральных архитектурных декораций. В его оформлении была поставлена при папском дворе комедия Биббиены «Каландрия». Там же Рафаэль оформил одну из постановок Ариосто. К сожалению, наше представление об искусстве зрелого Возрождения основано только или главным образом на памятниках монументальной и станковой живописи, в меньшей степени на произведениях скульптуры, в еще меньшей степени на рисунках и гравюрах. Вне поля нашего зрения по естественным причинам оказалась такая важная область деятельности большинства художников и архитекторов того времени, как украшение праздников, зрелищ и театральных постановок. А ведь долгое время именно эта деятельность рассматривалась как одно из основных занятий художников, особенно тех, которые состояли при дворах светских и духовных правителей. Достаточно вспомнить описания праздников, которые устраивались при Льве X и к украшению которых привлекались почти все художники, в первую очередь мастерская
Рафаэля и Перуцци. Обычно на пути праздничного шествия выстраивались триумфальные арки, украшенные статуями, рельефами и фресками. Архитектурные фоны картин Рафаэля и Перуцци, а также картин Джулио Романо и Франческо Пенни только частично дают представление о богатой, неисчерпаемой фантазии художников в изобретении архитектурных декораций праздников и постановок.
Сложнее были отношения Рафаэля с венецианским художником Себастьяно дель Пьомбо. Он приехал в Рим уже вполне сложившимся мастером и в некотором смысле выступал соперником Рафаэля, по крайней мере, активно претендовал на эту роль. В Венеции он учился сначала у Джованни Беллини, а затем в мастерской Джорджоне. В 1511 году, спасаясь от чумы, Себастьяно дель Пьомбо в свите Агостино Киджи бежал из Венеции в Рим. Здесь благодаря Киджи и его покровительству сблизился с Рафаэлем, вместе с которым работал в вилле Фарнезина (им расписаны люнеты и один из простенков в зале Галатеи). Его искусство, особенно широкие и свободные по живописи портреты, отличалось тонким, чисто венецианским колоритом. Вполне возможно, что благодаря Себастьяно дель Пьомбо Рафаэль ближе познакомился с достижениями венецианской школы в области света и цвета, воспринял живописность его стиля, что сказалось на общем колористическом строе фресок в Станце д’Элиодоро. Однако возникшая было дружба омрачилась соперничеством этих двух мастеров.
Следуя негласной, но прочной традиции, личность и искусство Рафаэля противопоставляются его гениальному современнику — Микеланджело Буонарроти. Еще Вазари внес в это противопоставление свою лепту, усмотрев в неудачах Микеланджело с гробницей Юлия II и в удалении его из Рима во времена Льва X следствие интриг круга Браманте и Рафаэля.
Подобная точка зрения грешит упрощенностью образа как одного, так и другого художника, мешает разобраться в существе отношений этих незаурядных творческих натур. Рядом с деликатным, общительным и всегда при-, ветливым Рафаэлем, окруженным шумной толпой учеников, помощников и поклонников его таланта, Микеланджело выглядит мрачным, нелюдимым, язвительным, резким в обращении и неуживчивым. Он разгоняет помощников, забывает об отдыхе и сне, целиком посвящая себя искусству. Столь разительное несходство характеров вряд ли способствовало сближению и возникновению дружеских симпатий между этими художниками, но столь же неоправданна и преувеличенная неприязнь Микеланджело к Рафаэлю. Из жизнеописания Вазари, писем Себастьяно дель Пьомбо и римских друзей скульптора явствует, что Буонарроти пристально следил за тем, что делал Рафаэль в Риме, каких вершин достигло его искусство.
Творчество Микеланджело, как и его личность, формировалось в демократической среде республиканской Флоренции, и истоки гордого свободолюбия гениального художника следует искать именно здесь. Всякое притворство, угодничество, приспособлен-
чество были чужды его натуре. Эти черты характера Микеланджело заставили многих бояться художника и не любить его.
Микеланджело относился к искусству с величайшей серьезностью, считая, что служит скорее богу, чем смертным. Он был бунтарем, не признающим лицемерия и пренебрегающим благами этого мира и его условностями. Целиком отдаваясь творчеству, составлявшему смысл его жизни, Микеланджело и в других ценил такую же преданность и верность.
В некотором смысле Рафаэль был антиподом Микеланджело. В его творчестве и в его жизни был элемент «игры», та видимая легкость, которая создавала, возможно, ложное впечатление несравненно менее усложненного отношения к искусству, чем у Микеланджело.
Вместе с тем, несмотря на очевидную разницу творческих темпераментов этих художников, интерес их друг к другу был несомненным. Мы уже упоминали о том, что во Флоренции Рафаэль имел возможность познакомиться с новым стилем Микеланджело в его живописном тондо «Святое семейство» и в картоне «Битва при Кашине». Однако первые попытки воспользоваться достижениями флорентийца оказались неудачными.
Вторая встреча с искусством Буонарроти имела более благоприятные последствия. Одновременно с Рафаэлем в Ватикане работал Микеланджело: один из них, замкнувшись в полном одиночестве, расписывал свод Сикстинской капеллы, другой — в окружении учеников писал фрески в Станце делла Саньятура.
В начальный период работы мы не найдём сколько-нибудь заметного влияния Микеланджело на живопись Рафаэля. Далекие отзвуки мощного стиля Буонарроти дают себя знать только в 1511 году. Не случайно примерно в это время Рафаэль внес во фреску «Афинская школа» фигуру Гераклита, в облике которого заметны не только некоторые портретные черты Микеланджело, но и воздействие его пластически выразительных фигур пророков на потолке Сикстинской капеллы.
Вазари пишет о том, что однажды, когда Микеланджело, поссорившись с Юлием II, уехал из Рима, друг Рафаэля, Браманте, имея ключи от капеллы, провел его туда и показал то, что уже было сделано. А к 1511 году Микеланджело расписал большую часть свода, продемонстрировав величие и
титаническую мощь своего нового стиля. Искусство Микеланджело не могло не потрясти Рафаэля, всегда чутко реагирующего на достижения современной ему живописи. Ученик и биограф Микеланджело Кондиви писал, что Рафаэль «почитал себя счастливым, что родился в дни Микеланджело, ибо сей великий художник открыл ему ту сторону искусства, которая была неизвестна другим».
Пораженный увиденным, покоренный широтой и дерзновенным размахом живописной манеры Микеланджело, Рафаэль во многом изменил язык своего искусства. Он сумел, как никто другой из его современников, не просто воспользоваться теми или иными находками Буонарроти, а привести грандиозный размах его стиля в соответствие с земными масштабами, то есть очень органично ввести достижения Микеланджело в структуру своего искусства, не нарушая присущих ему особенностей.
Уже во второй станце, Станце д’Элиодоро, он усилил драматизм и напряженность в трактовке сюжетов, смелее использовал ритм пространственного движения в глубину. Богаче и разнообразнее стали ракурсы его фигур, более подчеркнутой пластическая моделировка тела, сложнее и свободнее композиции фигурных групп. Все это позволило Микеланджело написать позднее в письме к епископу Марко Виджерио: «…все, что он имел в искусстве, он имел от меня». В словах Буонарроти была доля правды — знакомство с его живописью помогло Рафаэлю сделать последний, решающий шаг на пути к творческой зрелости.
От Станцы делла Сеньятура к «Преображению»
В течение почти десяти лет Рафаэль был занят росписью ватиканских станц—прямоугольных комнат в папских апартаментах старого Ватиканского дворца. Сначала была расписана средняя станца—Станца делла Сеньятура (1508—1511), затем — Станца д’Элиодоро (1511—1514) и в 1517-м—Станца дель Инчендио. Последним был расписан так называемый Зал Константина, большая часть композиций которого была завершена уже после смерти Рафаэля его учениками.
От спокойной типизации, гармонии и монументального величия фресок первой станцы Рафаэль пришёл к динамичным, внутренне напряжённым композициям второй станцы,продемонстрировав богатство, совершенство и смелость художественных решений. Фрески второй станцы свидетельствовали не только о творческой зрелости Рафаэля, но и отметили вершину его развития. После 1514 года он все чаще прибегал к помощи учеников, перепоручая им исполнение многочисленных заказов. Так, уже в Станце дель Инчендио большая часть фресок была выполнена не самим Рафаэлем, а согласно его эскизам — Джулио Романо и Франческо Пенни. В процессе столь длительной работы над станцами стиль Рафаэля не оставался неизменным, в своем развитии он прошел несколько этапов. В его эволюции в сконцентрированном виде отразились становление, расцвет и логическое завершение классического искусства зрелого Возрождения, нашли выражение его высшие достижения и внутренние, глубинные противоречия, которые заявили о себе немного позднее, уже после смерти создателя росписей ватиканских станц.
В конце XV века в период понтификата (правления) Александра VI анфилада небольших, плохо освещенных, перекрытых крестовыми сводами комнат второго этажа старого Ватиканского дворца была расписана историческими и евангельскими сюжетами художниками Пьеро делла Франческа, Лукой Синьорелли и Бра-мантино. Вступив в ноябре 1503 года на папский престол, Юлий II, ярый противник Александра VI, стремился искоренить самую память о своем предшественнике. Он приказал уничтожить созданные при нем фрески, решив украсить все три комнаты заново, сообразно их новому назначению. В Рим были приглашены Пьетро Перуджино, Содома, Бальдассаре Перуцци и Лоренцо Лотто. Когда Рафаэль приехал в Рим, они уже работали в станцах. Однако превосходство молодого умбрийского мастера оказалось настолько очевидным, что Юлий II отдал предпочтение ему одному, приказав сбить все, что уже было сделано.
Росписи ватиканских станц относятся к числу самых известных и популярных произведений мирового искусства. Они стали хрестоматийным примером наиболее завершенного и идейно выдержанного художественного ансамбля монументально-декоративной живописи зрелого Возрождения. В них нашли логическое завершение поиски ренессансных художников в области создания нового живописного стиля.
Помимо определенного стилистического единства, росписи всех трех станц преследуют и общую цель: в аллегорических, библейских и исторических образах выразить идею духовного могущества католической церкви и авторитета ее главы — римского первосвященника. Не случайно в композиции отдельных .фресок, главным образом в Станце д’Элиодоро и Станце дель Инчендио, включены портреты Юлия II и Льва X, а сюжеты этих станц ассоциируются с теми или иными историческими событиями периода их правления.
Однако было бы неверным ограничиться только таким историческим толкованием идейной программы росписей — она намного шире, так как в разработке смыслового содержания фресок Рафаэль опирался навсе богатства современной ему ренессансной культуры, обширный багаж гуманистического осмысления истории и человеческой деятельности.
Рафаэль начал расписывать папские апартаменты со средней станцы, которая вошла в историю под названием Станца делла Сеньятура, или комната Подписей. В этой комнате заседал церковный трибунал, и здесь его решения скреплялись подписью и печатью папы. Однако содержание фресок, за исключением одной, посвященной юриспруденции, более широкое.
Роспись Станцы делла Сеньятура образует целостный в идейном отношении ансамбль, в основу которого была положена прекрасно разработанная гуманистическая по содержанию программа. Она могла быть составлена кем-то из гуманистов, входивших в непосредственное окружение папы. Известно, например, что, разрабатывая композицию и характер образов первой фрески «Диспута», Рафаэль обращался за советами к папскому библиотекарю Томмазо Ингирами и к известному поэту, другу художника, Лудовико Ариосто, который не раз приезжал в Рим с поручениями кардинала Ипполито д’Эсте.
Во фресковом цикле раскрывалась сущность различных областей интеллектуальной деятельности человека, ведущей к познанию божественной и научной истин, к познанию прекрасного, к познанию справедливости и добра. В целом гуманистическая программа Станцы делла Сеньятура мало чем отличалась от существовавших в кватроченто циклов аналогичного содержания, украшавших обычно библиотеки и залы общественных зданий. Достаточно вспомнить такие близкие примеры, как уже упомянутые нами фрески в Камбио в Перудже или же композиции умбрийского художника конца XV века Пинтуриккио в апартаментах Борджа (Зал свободных искусств), расположенных в старом Ватиканском дворце, этажом ниже. Дидактическую идею единства различных областей духовной деятельности человека, обычно выраженную через отвлеченную систему аллегорических изображений, Рафаэль воплотил в больших историко-аллегорических композициях, наполненных живым движением и богатством эмоциональных оттенков. Тем самым он не только отошел от своих предшественников в характере раскрытия традиционной гуманистической темы, но и указал пути дальнейшего развития подобного рода живописи.
Рафаэлю нужно было расписать свод станцы и четыре стены с полукруглым завершением люнет, две из которых были неудобно прорезаны посередине окнами. На своде, общая декорация которого еще связана с традиционной геометрической структурой потолочной росписи кватроченто, в больших круглых медальонах размещены четыре аллегоричсские фигуры: «Теология», «Философия», «Юриспруденция» и «Поэзия». По углам свода, на парусах им соответствуют четыре композиции: «Адам и Ева», «Астрономия», «Суд Соломона» и «Аполлон и Марсий». Украшение потолка подготавливает восприятие главных фресок станцы, размещённые на стенах, а четыре аллегорических
фигуры в медальонах соответствуют содержанию четырех композиций: «Диспута» (теология), «Афинская школа» (философия), «Парнас» (поэзия) и «Мудрость, Мера и Сила» с двумя сценами из истории утверждения гражданского и церковного права (юриспруденция). В Станце делла Сеньятура Рафаэлю удалось достигнуть идейного и художественного единства всего ансамбля, где в тесной взаимосвязи существует живопись и архитектура. Более того, готическая архитектура комнаты преображается живописью Рафаэля в ренессансный интерьер.
Первой большой композицией, которую Рафаэль выполнил на стенах станцы, была «Диспута» («Dispute del sacramento» — спор о таинстве причастия). Однако название фрески, встречающееся еще у Вазари, не совсем точно передает ее смысл. Триумф христианской религии — вот истинное содержание этой впечатляющей своей широтой и размахом композиции. По своему стилю и выбору иконографического решения она наиболее традиционна из всех фресок станцы. Рафаэль ориентировался здесь на торжественные иерархические по своей структуре изображения Страшного суда: разделение на земную и небесную сферы, строгая иерархия образов верхней зоны, обилие золота, особенно вокруг изображения бога-отца, дугообразное построение фигурных групп, восходящее к фреске «Страшный суд» Фра Бартоломмео. ‘
Внизу, вокруг алтаря со святыми дарами, как вокруг центра симметричной композиции, размещены справа и слева деятели
церкви и знаменитые теологи: Григорий Великий, в образе которого некоторые исследователи находят портретные черты Юлия II, святые Иероним, Амброзий и Августин, Фома Аквинский и Бонавентура; здесь же и те, кто внес свой вклад в укрепление земного института церкви: папа Иннокентий III и Сикст IV (дядя Юлия II), живописец Фра Беато Анджелико, поэт Дант е, доминиканский монах Савонарола, сожженный, как еретик, и др. В созданных Рафаэлем исторических портретах церковных деятелей нет ортодоксальной набожности. Деятели церкви как бы живо участвуют в объединяющем их споре, а вернее, размышлении о сущности и путях познания божественной истины. Они пребывают в свободном творческом порыве. В этом смысле «Диспута» как бы подводит итог целой эпохи, окрашенной идеями религиозного свободомыслия. Не случайно позднее мы уже не встретим подобных «вольных» композиций на столь ответственную теологическую тему. Гуманистическая мечта о «благочестивой философии», которая объединила бы различные пути познания бога, была иллюзией свободы воли в отношении к религии. Утопичность этого недолгого примирения язычества и христианства, этого «мира вероисповеданий», дала себя знать уже в начале XVI века, а идея «мировой религии» разбилась в прах в жестоких спорах Триден-ского собора, в действиях наступившей в середине столетия контрреформации.
Напротив «Диспуты» находится «Афинская школа»— вторая большая композиция Станцы делла Сеньятура. Первое, что обращает на себя внимание, монументальная величественность, размах и грандиозный масштаб архитектурных форм второго плана, мощное звучание повторенных полукружий арок и подкупольного пространства. «Все мосты перекинуты,— писал А. Бенуа по поводу «Афинской школы»,— все своды замкнуты, грандиозное здание покрыто, и «хорошо обитать в нем»,— произошло «преображение» искусства».
Классические архитектурные формы идеального храма науки напоминают не только о современных художнику архитектурных идеях его друга Браманте, но и об античных руинах древнего Рима—императорских дворцах и термах. Именно благодаря размаху архитектурных форм Рафаэль созидает идеальное, кажущееся безграничным пространство, свободно открытое в сторону
зрителя, в котором столь же свободно и естественно чувствуют себя его герои. Внутри этого легко обозримого пространства художник размещает многочисленные фигуры, полные внутренней раскованности, свободы в выражении чувств, разнообразии движений. Свобода поведения каждого отдельного персонажа ограничена лишь единством замысла и подчинена основным линиям в расположении фигурных групп.
На фоне голубого неба, под мощным взлетом центральной арки Рафаэль поместил двух главных представителей античной философии, олицетворявших в период Возрождения два пути научного познания и как бы воплощавших вершину философской премудрости — Платона и Аристотеля. В них выражена основная идея фрески — величие человеческого разума, сила его мысли, постигающей законы мироздания. Платон указывает на небо, там он находит основы мироустройства. Аристотель решительным жестом выдвинутой вперед руки показывает на землю, видя в действительности опору на пути познания высшего блага. Не случайно в руках Платона его главный труд «Тимей», в котором, по словам неоплатоника Марсилио Фичино, выражена вся платоновская философия природы, а в руках Аристотеля — «Этика», основное учение античного философа о нравственности.
Справа и слева от центральной группы Рафаэль располагает представителей различных направлений античной философской мысли: здесь и Сократ со своими учениками, и эпикурейцы, и глава школы циников Диоген, вольно сидящий на ступенях храма, внизу слева — группа Пифагора с учениками, перед ними грифельная доска с изображением четырехструнной лиры как символа мировой гармонии, справа — группа Эвклида (Вазари видит в его облике портретные черты Браманте), склонившегося над чертежом, рядом с ним стоят Зороастр (с небесной сферой в руках) и Птоломей (с земной сферой). Ближе к группе Пифагора, опираясь на мраморный куб, сидит Гераклит. Мы уже писали о том, что в его облике многие видят портретные черты Микеланджело. На основании изучения прорисей исследователи считают, что фигура Гераклита была внесена во фреску позднее всех остальных. У правого края композиции Рафаэль написал свой автопортрет рядом с художником Содома. Таким образом, он как бы включил живопись в число свободных искусств, содружество которых раскрывает многообразие путей познания истины. Не случайно в нишах пилонов храма науки Рафаэль изобразил Аполлона, покровителя искусств, и Афину Палладу, богиню мудрости, покровительницу наук. Тем самым он утвердил единство путей познания сущности прекрасного и
закономерностей природного бытия.
Автопортрет с художником Содомой. 1509- 1511 годы.
На боковых стенах станцы расположены две фрески—«Парнас» и «Юриспруденция». В отличие от торжественной атмосферы «Диспуты» или ясной упорядоченности «Афинской школы» в «Парнасе» господствует «дух пленительной идиллии» (М. Дворжак). Фреска написана на стене с окном, что и определило характер композиции. Рафаэль остроумно выходит из сложного положения— верхняя грань наличника окна обыгрывается им как вершина холма, на которой у Кастальского источника сидит Аполлон в окружении муз. Склоны холма с расположенными на них поэтами и писателями естественно обрамляют окно справа и слева. Изящные лавровые деревья с тонкими стволами и прозрачными ажурными кронами подчеркивают три главные вертикали композиции, красиво читаясь на фоне голубого, с редкими облаками, неба. Сложная конфигурация стены диктовала художнику не только характер расположения основных фигурных групп, но и повлекла за собой отказ от подчеркнуто пространственного построения композиции.
Идейным и композиционным центром фрески стала фигура музицирующего Аполлона. Рядом с ним музы — покровительницы искусств, среди которых ближе всех к Аполлону сидят музы лирической и эпической поэзии. Вокруг главной группы Рафаэль поместил портреты великих поэтов древности — слепого Гомера, Вергилия, Горация, Пропорция, Овидия, Сапфо, Анакреона, то есть тех поэтов, которыми восхищались и подражать которым стремились его современники. Здесь, на Парнасе, среди легендарных поэтов художник изобразил и своих соотечественников — Данте, Петрарку, Боккаччо, Саннадзаро, Ариосто, тем самым утверждая преемственность итальянской ренессансной поэзии с наследием национального прошлого.
Поэты свободно и естественно живут в этом царстве поэзии, размещение их групп подчинено удивительному «стройному целому, легкому и устойчивому… носящему характер какой-то волшебной импровизации,— той непогрешимой импровизации, которая льется со струн бога музыки» (А. Бенуа).
Внизу, под «Парнасом», по сторонам окна гризайлью написаны две композиции: «Император Август запрещает душеприказчикам Вергилия сжигать «Энеиду» и «Александр Македонский приказывает сохранить сочинения Гомера в могиле Ахилла». Авторство их спорно: одни исследователи считают, что обе композиции написал сам Рафаэль, другие — видят в них руку его ученика Франческо Пенни. В этих небольших композициях последовательно проводится идея благого покровительства искусствам со стороны сильных мира сего, что намекало на меценатство римских пап, выступающих преемниками императоров.
Последняя фреска Станцы дел-ла Сеньятура отдана юриспруденции. В люнете над окном Рафаэль широко и свободно написал три аллегорические фигуры добродетелей, составляющих основу правосудия—смотрящую в зеркало двуликую Мудрость, Силу с дубовой ветвью в руках, что намекало на справедливость
правления Юлия II, в родовом гербе которого были дубовые листья, и Умеренность с уздечкой. Ниже, по сторонам окна, две исторические композиции: «Три-бониан вручает Пандекты Юстиниану», что символизирует утверждение гражданского права, и «Григорий IX передает на хранение Декреталии», тем самым утверждая церковное право.
В последних фресках Станцы делла Сеньятура заметны новые черты живописного стиля Рафаэля: укрупнение масштабов фигур, усиление их пластической мощи, большая смелость и энергичность в использовании сложных ракурсов, динамика и напряженность движения. Во фреске «Григорий IX передает на хранение Декреталии» Рафаэль воспользовался мотивом Мелоццо да Форли в его «Учреждении Ватиканской библиотеки» в Ватиканской пинакотеке. Сходство этих фресок носит чисто иконографический характер, в остальном — поразительная разница. Несмотря на звучность мощного архитектурного фона, у Мелоццо да Форли еще много дробности, скованности, робости в пространственном развороте фигур. Во фреске Рафаэля преобладают крупные, выразительные пластические формы, свободней и естественней стали развороты фигур, точнее портретные характеристики (слева от папы стоят кардиналы Джованни Медичи, будущий папа Лев X, и Алессандро Фар-незе — папа Павел III). Последнее особенно примечательно, так как а дальнейшем портретность образов составит одну из наиболее ярких черт нового, так называемого исторического, стиля Рафаэля в Станце д’Элиодоро.
В образе Григория IX художник изобразил Юлия II в парадном блеске его папского величия. Это первый, если не считать спорное изображение Юлия II в образе Григория Великого в «Диспуте», портрет воинственного и грозного папы. К 1511 году относится и портретный этюд (сангина, коллекция герцога Девонширского), возможно положенный в основу живописного портрета.
Случайно ли появление в Станце делла Сеньятура, во фреске, олицетворяющей церковное правосудие, портретного изображения Юлия II? Вспомним, что происходило в 1511 году: это и образование направленной против французов Священной лиги, и неудачный зимний поход Юлия II, и созыв антипапского собора • Пизе, и серьезная болезнь папы.
Появление портрета Юлия II в полном торжественном с тяжелой тиарой на голове папском облачении в образе Григория IX, римского папы с 1227 года, который боролся с императором Фридрихом II (так же, как Юлий II с Людовиком XII) за установление верховной власти пап над светскими государями и который для борьбы с ересью преобразовал инквизицию в постоянный карающий орган католической церкви, имело совершенно определенный политический смысл. В таком прочтении портрета заложены основные идеи программы росписи следующей, второй станцы — утверждение пошатнувшегося авторитета папской власти, незыблемости церковных законов, их божественной освещенности, земного могущества римских духовных владык. В декабре 1511 года взбунтовавшиеся болонцы сбросили с портала собора Сан Петронио статую ненавистного им Юлия II, отлитую в 1508 году Микеланджело. Вазари пишет о том, что из осколков статуи во враждебной папе Ферраре была отлита пушка, названная Джулией. По существу, портрет папы Юлия II в Станце делла Сеньятура восполнял досадную утрату, а поднятый вверх благославляющий жест папы не столько призывал к примирению, сколько грозил.
Фрески Станцы делла Сеньятура, еще целиком связанные с гуманистической системой мировосприятия, рождают впечатление целостности и гармонического равновесия мироустройства, величия и жизнестойкости человеческого духа. В них с наибольшей силой и откровенностью выражена идея идеального мира, в котором властвуют разум, порядок, мера и гармония.
Следующая, вторая станца, расписанная Рафаэлем и его мастерской между 1512—1514 годами, получила название Станца д’Элиодоро, по сюжету одной из фресок. Стиль этой станцы часто называют «историческим». Подобное определение нового стиля Рафаэля объясняется тем, что, в отличие от чисто умозрительной программы первой станцы, содержание фресок Станцы д’Элиодоро восходит к конкретным историческим или библейским первоисточникам, то есть в некотором смысле является историческим. Каждый из выбранных сюжетов в той или иной степени связан с деятельностью конкретного исторического лица — папы Юлия II и теми событиями, участником или вдохновителем которых он был. Программа росписи читалась
современниками как метафора, как прославление земных деяний Юлия II на благо церкви и Италии.
Портретные образы Рафаэля сохраняют свежесть и непосредственность живого впечатления. Благодаря силе и выразительности портретных характеристик изображение легендарных и библейских событий приобретает жизненную убедительность.
Фрески Станцы д’Элиодоро разительно отличаются от Станцы делла Сеньятура: изменилась не только их сюжетная программа, изменилось отношение художника к пониманию живописного ансамбля. Несмотря на разницу в сюжетах, различие в композициях, колористическом решении той или иной фрески, роспись в целом обладает редким художественным единством, кажется, что она выполнена на одном дыхании.
Все сюжеты росписи были, видимо, отобраны при непосредственном участии Юлия II. Каждый из них раскрывает один из аспектов общей идеи. Чудесное вмешательство божественного провидения в человеческую историю окрашивается реальным политическим смыслом, приобретает силу пропаганды деяний и замыслов Юлия II.
Живопись Рафаэля предстает в совершенстве своего зрелого классического стиля. Гармония и равновесие Станцы делла Сеньятура обогащаются в композициях второй станцы динамикой внутреннего напряжения, мощным звучанием активно созидающих пространство архитектурных форм.
Уже первая фреска — «Изгнание Гелиодора из храма» захватывает бурной патетикой своего стремительного, быстро развертывающегося на глазах зрителя действия. В апокрифической легенде, из которой был заимствован сюжет фрески, рассказывается о том, как сирийский полководец Гелиодор пытался похитить из Иерусалимского храма казну вдов и сирот. Услышав молитву первосвященника, бог послал небесных воинов, которые и изгнали грабителей из храма. Драматизируя сюжет, Рафаэль разыграл действие с таким расчетом, чтобы равновесие, достигнутое благодаря примирению противоборствующих сил — светлого и темного, покоя и движения, пустого и заполненного пространства,— находилось в постоянном напряжении, порождало внутренний конфликт. Появление конфликтного начала в искусстве Рафаэля свидетельствовало о влиянии Микеланджело.
Большое значение в композиции Рафаэля приобретает свободное пространство — оно как бы фиксирует ритмическую паузу, останавливает и направляет взгляд к центру, туда, где в мерцающем свете свечей, кидающем дрожащие отблески на золоченые купола и теплое дерево хора, молится первосвященник. Мягкая, немного таинственная светотень создает торжественное настроение сопричастности чуду.
Взволнованности зрителей, отчаянию вдов и сирот противостоит спокойная уверенность Юлия II, портрет которого написан в крайнем левом углу фрески. Присутствие Юлия II при чудесном изгнании грабителей связывало апокрифическую легенду с современностью, вызывало у зрителей ассоциации с политическими событиями тех лет — изгнанием французов из Италии и избавлением церкви от раскола (5 мая 1512 года был открыт Латеранский собор).
Рафаэль как бы изображает картину в картине: сидящий на носилках Юлий II видит открывшееся только ему чудо из библейского апокрифа. Не случайно из всего окружения папы он один смотрит в сторону чудесного видения, все остальные остались к нему абсолютно безучастными, В группе приближенных папе лиц художник изобразил своего друга Марка Антонио Раймонди, благодаря гравюрам которого произведения Рафаэля получили широкую известность не только в Италии, но и далеко за ее пределами. «Иная гравюра,— как справедливо заметил А. Бенуа,— сделанная прямо с наброска мастера, хранила при этом лучше мысль Рафаэля, нежели исполненные учениками картины и фрески». Одетый в немецкую одежду Марк Антонио Раймонди напоминает один из автопортретов немецкого художника Дюрера, которого Рафаэль хорошо знал и искусством которого восхищался. Среди тех, кто поддерживает носилки Юлия II, художник изобразил и самого себя (крайнее справа лицо молодого человека с бородкой).
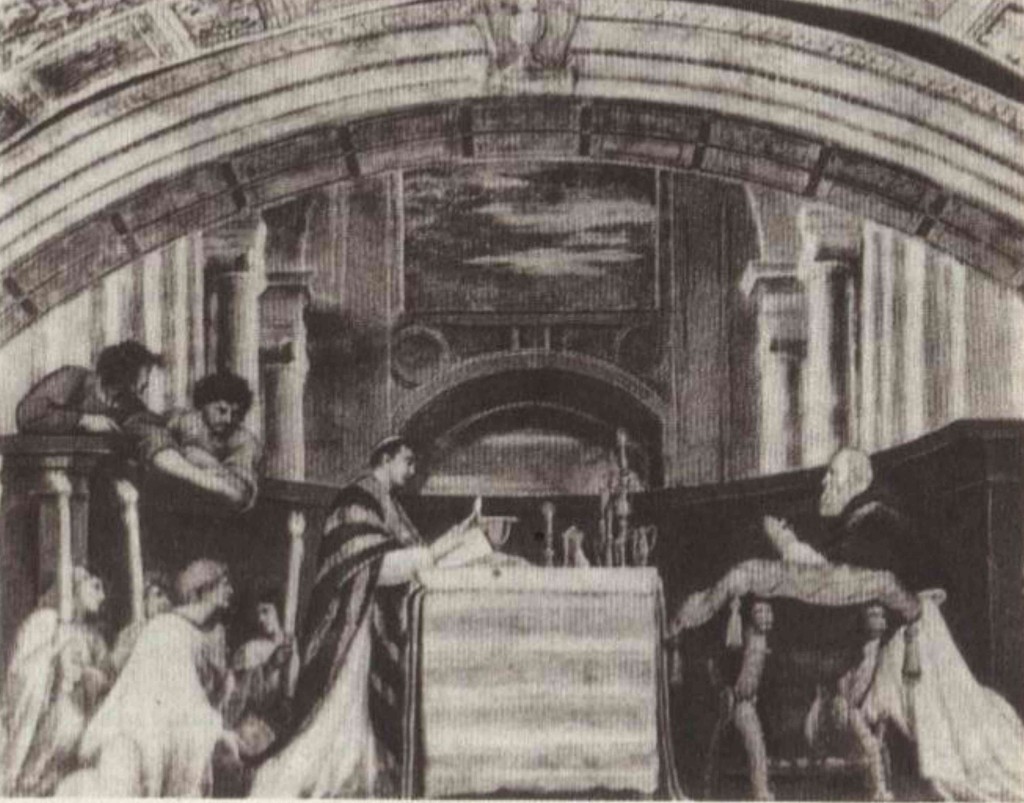 Месса в Больсене. Фрагмент. 1512 год.
Месса в Больсене. Фрагмент. 1512 год.
С именем Юлия II связаны еще две фрески Станцы: «Месса в Больсене» и «Освобождение Петра из темницы». Первая из них рассказывает о легендарном событии, изложенном в булле папы Урбана IV, устанавливающей праздник Тела Христова. В ней описывается, как один немецкий священник, служивший мессу в храме небольшого городка Больсена, недалеко от Орвието, усомнившись в таинстве причастия, увидел кровь на облатке, которую держал в руке.
 Месса в Больсене. Деталь. 1512 год.
Месса в Больсене. Деталь. 1512 год.
Почему для станцы, фрески которой прославляют Юлия II, была выбрана эта тема? «Месса в Больсене» в образной форме подтверждала истинность таинства евхаристии, а Юлий II, изображенный художником напротив священника, как бы олицетворял правоту церковного вероучения и подтверждал незыблемость авторитета папской власти. Но есть и более прямая связь: Юлий II, так же как и его дядя, папа Сикст IV, был большим почитателем довольно сложного для понимания праздника Тела Христова. В 1506 году Юлий II сам отслужил памятную всем мессу в том же храме, в котором случилось описанное в булле чудо.
Месса в Больсене. Фрагмент. 1512 год.
Во фреске «Месса в Больсене» Рафаэль показал себя не только превосходным мастером композиции, но и блестящим колористом. Великолепны по звучности цвета и богатству теплых оттенков яркие костюмы швейцарской гвардии, утвержденной Юлием II в 1506 году. В легких женских одеждах и в одеяних юных дьяков голубоватые, серебристые, нежно-серые и светло-зеленые оттенки контрастно сочетаются с теплым, неровным светом горящих свечей. Мерцают золотые нити парчи в одежде священника, играют блики на золоте церковной утвари, тяжелые золотые кисти свисают по углам молитвенной подушки и великолепно сочетаются с глубоким пурпуром ее обшивки и накидкой папы.
Нижняя правая часть фрески представляет собой превосходные, выразительные по характеристике портреты: чуть ниже папы, на ступенях ведущей к алтарю лестницы, стоят коленопреклоненные кардиналы Раффаэло Риарио и Леонардо Гроссо делла Ровере, внизу — яркие, запоминающиеся образы молодых рослых красавцев из швейцарской гвардии.
Напротив «Мессы в Больсене» одна из самых необычных композиций станцы, редкий в итальянском искусстве того времени живописный ноктюрн — «Освобождение Петра из темницы». Фреска написана еще при жизни Юлия II и программно связана с его именем.
 Освобождение Петра из темницы.
Освобождение Петра из темницы.
До избрания в папы Юлий II был кардиналом римской церкви Сан Пьетро ин Винколи, в реликварии которой хранились оковы святого Петра, особо почитаемые Сикстом IV. В 1512 году Юлий II устроил там торжественную службу в ознаменование освобождения «престола св. Петра» от скверны раскола и опасности порабощения чужестранцами. Там же Юлий II и был похоронен.
Свет, озаряющий тьму, стал главным средством художественного воздействия. Именно свет — небесное сияние вокруг ангела, дрожащий на ветру сеет факелов, тусклый свет луны, розовые тона предрассветного неба, отблески света на стенах, земле, латах стражников, их лицах — становится тем животворным началом, под воздействием которого ирреальное событие воспринимается как реальное, но окрашенное сказочной таинственностью. Сеет зачаровывает, от него невозможно оторваться. Он объединяет разновременные эпизоды единой эмоциональной средой.
Ни до, ни после «Освобождения Петра из темницы», если не считать поразительного эффекта небесного свечения вокруг Христа в «Преображении», Рафаэль не прибегал к подобному колористическому решению. Вполне возможно, что контрастное сопоставление тьмы ночи и божественного сияния, теплого света факелов и холодного — луны было навеяно знакомством с венецианским искусством (вспомним аналогичные находки у Джорджоне) и воспоминаниями о произведениях Пьеро делла Франческа.
Последней во второй станце была написана фреска «Встреча Льва I с Аттилой». Начатая при Юлии II, она была закончена уже при новом папе — Льве X. Задуманная как прославление воинских заслуг Юлия II, она стала первой в ряду сюжетов, связанных с прославлением нового церковного владыки. Историческое событие — победа Льва I над гуннами во главе с Аттилой, которые были остановлены недалеко от Мантуи, на севере Италии — наделяется чертами религиозного чуда. В качестве защитников церкви в небе появляются святые Пётр и Павел. Выбранный сюжет ассоциировался не только с победами Юлия II и божественным
провидением в выборе места для столицы католического мира, но и с победой Льва X над французами в битве при Наварре в 1513 году. Во фреске Лев X изображен дважды: один раз — как кардинал в свите папы, другой раз — в образе Льва I.
Композиция фрески построена на противопоставлении бурного, неорганизованного, дикого движения гуннов и спокойного, величественного и торжественного противостояния Льва I в окружении свиты и со всеми регалиями папской власти. В пейзаже второго плана отразились археологические увлечения Рафаэля тех лет — облик древнего Рима угадывается в его знаменитых развалинах: Колизее, акведуке, базилике Макценсия-Константина.
Во фреске «Встреча Льва I с Аттилой» значительным было участие учеников. Живопись стала суше, действие нарочито драматизированным. В двух последних комнатах, расписанных мастерской Рафаэля, — Станце дель Инчендио и Зале Константина — участие учеников стало преобладающим. В темноватой живописи, в перегруженных многолюдных композициях, в педантичной выстроенности мизансцен ощущаются признаки усталости, если не упадка высокого стиля первых двух станц. Большинство фресок, за исключением, пожалуй, «Пожара в Борго», условны и лишены былой жизненности. Они напоминают сухие «протоколы» важных политических событий. В них преобладает риторика, за многословностью которой скрывается духовная пустота.
Из монументально-декоративных циклов, выполненных мастерской Рафаэля, нельзя не упомянуть фрески в вилле Фарнезина. Близ Тибра, в районе Трастевере, Агостино Киджи задумал построить загородную виллу для отдыха и развлечений. Проект здания был выполнен Бальдассаре Перуцци. В построенной в 1509—1511 годах
вилле мастерская Рафаэля должна была расписать два парадных зала: зал Галатеи и лоджию Психеи, выходящую своими пролетами в парк.
В 1513 году на одном из простенков Зала Галатеи Рафаэль написал «Триумф Галатеи» — фреску, которая предвосхитила многие достижения декоративной живописи барокко. Живопись Рафаэля, развивая черты нового драматического стиля Станцы д’Элиодоро, приобрела широту и размах. Движение овладевает пространством, легкая прозрачная живопись передает ощущение свежести морского воздуха, точка зрения снизу придает композиции монументальность и торжественность. «Триумф Галатеи» — вне сомнения одно из самых классических произведений художника. Звучная мажорность радостной живописи воссоздает как бы самый дух античности. Классическим стало ощущение жизни, ее полнокровное, мощное дыхание. Триумф Галатеи. 1513 год.
Триумф Галатеи. 1513 год.
Менее удачными оказались росписи лоджии Психеи, выполненные пятью годами позднее учениками Рафаэля согласно эскизам мастера. Сюжетом фрескового цикла послужили различные эпизоды небесной и земной истории любви Купидона и Психеи, взятые из «Метаморфоз» Апулея. Фрески на своде, парусах и люнетах лоджии образуют единый декоративный ансамбль, имитирующий увитую сочными растительными гирляндами беседку, украшенную живописными панно; в просветах между гирляндами, на фоне голубого с редкими облаками неба летают путти, амуры, здесь спокойно беседуют прекрасные боги и богини Олимпа. В целом исполненные учениками фрески оказались не совсем удачным. Неслучайно, один из друзей Микеланджело писал ему из Рима: «Открыта (роспись) свода у Агустино Киджи — вещь позорная для великого мастера, еще хуже, чем последняя комната дворца…»
Продолжением «исторического» стиля второй станцы стала работа Рафаэля над циклом картонов для ковров (1515—1516 гг.). Лев X задумал выткать серию ковров на сюжеты из жизни апостолов Петра и Павла, которые должны были украшать в особо торжественных случаях нижнюю часть стен Сикстинской капеллы. Повешенные по двум сторонам от алтаря, они идейно завершали убранство капеллы, утверждая преемственность Петра и Павла от Христа и Моисея. Более того, сцены из жизни Льва X, помещенные на нижних обрамлениях ковров, подчеркивали его особую роль в истории римской церкви. Ковры были вытканы в Брюсселе в мастерской Питера ван Альста. В бесчисленных рисунках и гравюрах их композиции распространились по Европе, оказав огромное воздействие на сложение классицизма в искусстве следующего, XVII столетия.
Рассматривая ковер как одну из форм монументально-декоративной живописи, Рафаэль нарушил плоскостной принцип коврового изображения. Каждая из композиций — это патетический, величественно-торжественный рассказ, сохраняющий при этом достоверность и жизненную убедительность изображения. Евангельская легенда изображается как реальное событие, происходящее на фоне сельского пейзажа, как в «Паси овцы мои» и в «Чудесном улове», на городской площади у входа в храм, как в «Проповеди Павла в Афинах», в многолюдной толпе у городских ворот, как в «Исцелении у Красных ворот».
«Библией Рафаэля» называют цикл росписей на библейские сюжеты, украшающий своды лоджии второго этажа двора Сан Дамазо в Ватикане. Цикл был исполнен по эскизам Рафаэля его учениками и помощниками, главными среди которых были Джулио Романо, Франческо Пенни (они исполняли сюжетные композиции на сводах) и Джованни да Удине (он писал все «гротески»), В легкой прозрачной живописи, простоте и ясной гармонии композиций, удивительной поэтической свежести декоративных орнаментов и «гротесков» (орнамент, в котором причудливо сочетаются декоративные мотивы и изображения животных, растений, масок, человеческих фигурок) заметно воздействие античной живописи, открытой тогда в развалинах Золотого дома Нерона.
В Риме Рафаэль продолжал разрабатывать тему мадонны, которая столь полюбилась ему еще во Флоренции. Именно в этой глубоко человечной по своему содержанию теме художник смог с наибольшей полнотой раскрыть свои представления о благородстве и совершенстве человека, красоте его душевных порывов. «То человеческое совершенство, о котором только грезили мыслители, которое тщетно пытались воспеть в стихах поэты, о котором неустанно твердили моралисты, нашло свое выражение в живописи Рафаэля» (М. Алпатов), и прежде всего в образах его мадонн.
В период работы над росписью первой станцы Рафаэль написал «Мадонну Альба» (ок. 1509, Вашингтон, Национальная галерея), в которой, несмотря на присутствие еще флорентийских мотивов, камерность в трактовке образов, пейзаж ‘второго плана, есть уже чисто римская масштабность. Добиваясь идеальной завершенности круговой композиции, гармонической согласованности всех ее компонентов, Рафаэль обратился к сложной форме живописного тондо.
С драматическим стилем второй станцы согласуется «Мадонна в кресле» (1514—1515, Флоренция, Галерея Питти). Пластически сочная группа мадонны с двумя младенцами вписана в круг. И сделано это столь органично, что естественная жизненность найденного художником мотива породила романтическую легенду о его возникновении. По преданию, однажды утром Рафаэль, проходя по району Трастевере, увидел на ступенях церкви молодую крестьянку, кормящую грудью ребенка. Пораженный ее красотой, художник зарисовал понравившуюся ему группу на днище от бочки. Этот реальный и непритязательный бытовой мотив лег в основу одного из самых очаровательных и поэтичных произведений художника.
Идея создания образа Марии, в котором возвышенное, идеальное слилось бы воедино с поэтической женственностью и мягкой человечностью, волновала Рафаэля с флорентийских времен. В 1511—1512 годах Рафаэль написал для своего друга, папского историка Сиджизмондо деи Конти, большой алтарный образ «Мадонна ди Фолиньо» (Рим, Ватиканская пинакотека), который долгое время находился в алтаре древней римской базилики Санта Мария ин Арачели на Капитолийском холме.
В этом алтарном образе художник впервые обратился к архаическому мотиву божественного явления Марии с младенцем на небе, на земле же ей предстоят коленопреклоненный заказчик Сиджизмондо деи Конди и святые, представляющие его мадонне: Иоанн Креститель, св. Иероним и св. Франциск. Прямо под мадонной на земле стоит путти, в руках которого дарственная дощечка с посвятительной надписью. Путем разделения на земную и небесную зоны Рафаэль попытался вернуть характерной для XV века композиции свядого собеседования (Sacra соп-versatione) идеальный, возвышенный характер. То, что было найдено Рафаэлем в «Мадонне ди Фолиньо», получило свое логическое завершение, исчерпывающее художественное воплощение в «Сикстинской мадонне».
Поиски идеала привели художника к созданию замечательного творения его художественного гения — к «Сикстинской мадонне» (1513—1514, Дрезден, Галерея)*. В XVI веке она пользовалась известностью, в XVII—была почти забыта, а в XIX столетии, особенно в его середине, превратилась в одно из самых популярных произведений мирового искусства. Среди русских писателей XIX века наиболее восторженным поклонником «Сикстинской мадонны» был Ф. М. Достоевский.
«Сикстинская мадонна» написана на холсте (все остальные произведения художника написаны на доске) для церкви св. Сикста монастыря черных монахов города Пьяченце. В 1754 году картина была продана в Дрезден, где она находится и поныне. Свое второе рождение, вместе с другими спасенными произведениями из Дрезденской галереи, она пережила в 1945 году. В Москве в Музее изобразительных искусств им А. С. Пушкина «Сикстинская мадонна» была отреставрирована замечательными советскими реставраторами во главе с П. Д. Кориным.
В чем секрет необыкновенного обаяния и притягательной силы «Сикстинской мадонны», почему при взгляде на нее зритель как бы отрешается от всего суетного и мелочного, от всего того, что сопутствует человеку в его земной жизни?
Всякого, кто смотрит на «Сикстинскую мадонну», поражает тонко найденное художником сочетание человечности, женственности, жизненной убедительности образа Марии с идеальными представлениями о ее царственном величии, чистоте и сопричастности возвышенному. Сочетание реального и идеального делает «Сикстинскую мадонну» достоянием вечности, одним из самых известных и любимых произведений мировой живописи.
Занавес распахнут — перед нами, словно в окне, предстает мадонна с младенцем на руках. Св. Сикст, благоговейно смотрящий на нее, и св. Варвара, стоящая на коленях перед мадонной, как бы представляют ее зрителям, а зрителей мадонне. Мы оказываемся на границе двух миров — реального и идеального: медленно, почти не касаясь облаков, ступает Мария, и мы скорее ощущаем, чем видим, это торжественное, плавное нисхождение — от небесного к земному, от божественного к человеческому.
Она идет, восторгам не внимает,
И стан ее смиреньем облачен,
И кажется: от неба низведен
Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.
Такой восторг очам она несет,
Что, встретясь с ней,ты обретаешь радость,
Которой не позн/pПочему для станцы, фрески которой прославляют Юлия II, была выбрана эта тема? «Месса в Больсене» в образной форме подтверждала истинность таинства евхаристии, а Юлий II, изображенный художником напротив священника, как бы олицетворял правоту церковного вероучения и подтверждал незыблемость авторитета папской власти. Но есть и более прямая связь: Юлий II, так же как и его дядя, папа Сикст IV, был большим почитателем довольно сложного для понимания праздника Тела Христова. В 1506 году Юлий II сам отслужил памятную всем мессу в том же храме, в котором случилось описанное в булле чудо.авший не поймет.
Данте
Полная затаенной грусти, предчувствуя трагическую судьбу сына, Мария спускается на землю, готовая принести в жертву самое дорогое, что у нее есть, — свое дитя. «Внутренний мир ее разрушен, — писал А. И. Герцен в «Былом и думах», — ее уверили, что ее сын — сын божий, что она — богородица; она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с материнским ясновидением, она как-будто говорит: «Возьмите его, он не мой». Но в то же время прижимает его к себе так, что если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына».
В Риме в полной мере раскрылся и дар Рафаэля-портретиста. Уже при работе над росписями станц он неоднократно и охотно включал в свои композиции портреты реальных исторических лиц, людей, с которыми он каждодневно встречался в коридорах курии: высших церковных сановников, папских секретарей и слуг, офицеров швейцарской гвардии и своих товарищей-художников.
 Портрет Бальдассара Кастильоне. 1515 год.
Портрет Бальдассара Кастильоне. 1515 год.
Покоряющей особенностью римских портретов Рафаэля является их благородство и простота. Художник избегает усложненных композиций, выбирает для каждого портрета свою колористическую гамму. В облике моделей он подчеркивает значительность и гармоническую ясность их духовного мира, не пренебрегая однако и индивидуальными чертами. Все без исключения римские портреты Рафаэля («Бальдассаре Кастильоне», 1515, Париж, Лувр; «Портрет кардинала», ок. 1519, Мадрид, Предо; «Томмазо Ингирами», ок. 1513, Бостон, Музей Гарднер) поражают лаконизмом ясных, уравновешенных композиций, совершенством, тонкостью колористических решений.
 Портрет папы Льва Х с кординалами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Фрагмент. 1517-1518 годы.
Портрет папы Льва Х с кординалами Джулио Медичи и Луиджи Росси. Фрагмент. 1517-1518 годы.
Традицию торжественных групповых портретов, включенных во
фрески ватиканских станц, Рафаэль развивает в портрете папы Льва X с кардиналами Джулио Медичи (будущий папа Климент VII) и Луиджи Росси (1517—1518, Флоренции Галерея Уффици). Лев X изображен за своим любимым занятием: он рассматривает в лупу миниатюры в одной из старинных иллюминированных рукописей, коллекционером и большим ценителем которых он был. Как ни старался Рафаэль польстить своему заказчику и покровителю, портрет получился острым и точным по аналитической характеристике. Обрюзгшее, болезненное лицо, вялые движения, равнодушный взгляд выдают в Льве X человека, любящего удовольствия, потакающего своим прихотям, последовательно, хитро, а иногда и жестоко проводящего политику поддержания своего авторитета и возвеличивания рода Медичи. Как здесь не вспомнить слова, облетевшие весь Рим, которые сказал Джованни Медичи, стае папой: «Раз бог сделал нас папой, то мы постараемся воспользоваться этим!»
Последние годы жизни Рафаэль был признанным главой римской художественной школы. Созданные им произведения на многие годы определили пути ее развития. Увлеченный грандиозными планами и замыслами, заваленный бесчисленными заказами, он не замечал надвигавшегося на него творческого кризиса, следы которого уже отчетливо видны не только в его поздних монументально-декоративных циклах, но и в его больших алтарных картинах, и в первую очередь в «Преображении Христа» (1517—1520, Рим, Ватиканская пинакотека) — последнем, так и не завершенном произведении художника, поставленном у его изголовья в день смерти.
«Преображение Христа» было заказано Рафаэлю кардиналом Джулио Медичи в 1517 году. Над огромным алтарным образом (405X278 см) художник работал на протяжении трех лет и, как пишет Вазари, никого не допускал к нему. После смерти Рафаэля
картину завершили его ученики Джулио Романо и Франческо Пенни.
В своей последней работе Рафаэль сделал попытку соединить классический стиль периода его работы в Станце делла Сеньятура с драматическим или, как мы его называли, «историческим» стилем зрелого периода. Картина, которая по замыслу Рафаэля должна была стать идеальным воплощением гармонии, основанной на контрастном сопоставлении двух начал — реального, земного, и божественного, небесного, — оказалась усложненной и дисгармоничной. Попытка художника не удалась.
Композиция картины делится на две части: наверху в ярком, пронизывающем все сиянии изображено мистическое преображение Христа, в облике которого часто видят идеализированный автопортрет художника на Фаворской горе; внизу—сцена исцеления бесноватого мальчика. В театральной драматизации действия, в жесткости, педантичности и сухости рисунка, определенной постановочности, нежизненности всей сцены исцеления и особенно в темной цветовой гамме нет легкости, свободы, живой непринужденности — короче, нет грации, которая была присуща всему, что создавал Рафаэль.
После смерти Рафаэля искусство его учеников и многочисленного окружения утратило былую жизнеспособность, стало однообразным, вялым, лишенным динамики роста. То, чего так счастливо удалось избежать Рафаэлю, захватило его учеников, творчество которых открывает новую и последнюю страницу в истории итальянского ренессансного искусства.
Рафаэль умер неожиданно, после недолгой болезни, а день своего рождения —6 апреля 1520 года. Многими его смерть была воспринята как смерть искусства — настолько велика была слава художника и всеобщим было его почитание. Согласно завещанию, Рафаэля похоронили в Пантеоне, среди великих люде Италиии.
Вера Дмитриевна Дажина.