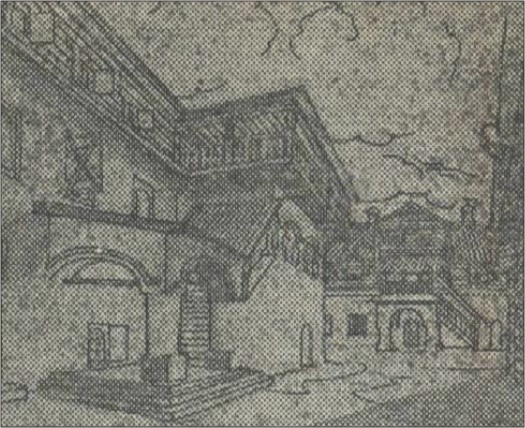Спегальский Юрий
Спегальский Юрий
Спегальский Юрий Павлович (1909-1969) — архитектор, художник, реставратор. Уроженец Пскова.
ЖИЗНЬ ЕДИНАЯ
Чем у человека больше размах в жизни и работе, тем больше огорчений и потрясений, тяжелых моментов и переживаний, перенести которые могут люди только с крепкой психикой»,— так писал своей жене сорок лет назад замечательный архитектор, реставратор, художник и исследователь псковского строительного средневековья Юрий Павлович Спегальский. Сейчас из двух вышедших книг О. К. Аршакуни о покойном муже («Предчувствие» и «Народное зодчество Пскова») мы узнали, что он писал это только в середине всех выпавших на его долю «потрясепий и переживаний».
Теперь в Пскове его именем названа улица, в квартире открыт музей, но сказать о благополучии судьбы художника — значит поощрить неправду. «Крепкая психика» нужна была ему до конца. Потом она стала необходима его жене, чтобы огромная и неоценимая работа исследователя, его напечатанное только в самой малой части наследие было сохранено, опубликовапо и могло работать на пользу русской реставрационной науке.
Я не для синонимического разнообразия использую разные понятия — реставратор, художник, исследователь,— а только чтобы возможно полнее сказать об этом неисчерпаемом человеке, который был еще и хорошим каменщиком, керамистом, плотником, печником, живописцем. Судьба словно так и готовила его в реставраторы, где все эти умения сходятся для наиболее полного и живого применения. Тут было именно избрание судьбы, отмеченность, когда будущее занятие написано на роду. Мальчиком он уже собирал обломки изразцов, рисовал и берег их с такой привязанностью, что когда отчим в досаде и ожесточении разбил один из них, мальчик ушел из дому. Не по-детски, па полчаса, с перегорающей обидой ребенка, а твердо, как уходят призванные, и с тринадцати лет не принимал домашней материальной помощи. При э+ом историческое его знание было столь обстоятельно, что сохранившаяся в музее школьная справка без улыбки именует шестнадцатилетнего мальчика «крупным работником.., проявившим недюжинные архитектурные способности».
Он учился в Ленинграде, в Институте коммунального строительства (теперешнем ЛИСИ) с постоянной памятью в Пскове, торопя свое профессиональное возвращение, и каждые каникулы мчался туда, не уставая дивиться богатству редкой земли. «Большой псковский рынок, деревянная или конная ярмарка — зрелище, которое для меня в тысячу раз сильнее лучшей картипы Рериха… Расписная посуда, сундуки, кафтаны, попоны, рукавицы, пояски… целый ходячий музей!». Только, похоже, он видел это один. Загляните сейчас в псковский музей — ни сундуков, ни кафтанов — словно это было тысячелетие назад и вот не убереглось в движении столетий. Дело не в военных — невосполнимых! — утратах. Тут другое. Нужно было его зоркое сердце и умение слышать необратимость времени, чтобы увидеть и оценить обычный тогда рыночный товар, как голос предания. В музее, куда он сдал с детства складываемую коллекцию печных изразцов XVII века, он мог с печалью видеть, что они выкинуты на свалку — культура еще выражалась для простодушных музейных кадров новой формации в вещах более нарядных, чом попоны и обломки изразцов.
Он предчувствовал наступающее беспамятство и торопился домой, где еще у любого старого псковского дома, «даже не копаясь, можно было чувствовать следы веков, прошедших здесь тихо и неторопливо, где каждая пылинка, оторвавшаяся от штукатурки, лежала никем не тронутая, не затоптанная». Он успел после института восстановить Гремячую башню, существенную часть Вторых меншиковских палат и закрепить многие аварийные памятники. Война застала его в Ленинграде, где он и пережил всю блокаду.
Воспоминания Аршакуни об этих днях мучительны и тяжелы, потому что и она перемогала беду здесь, изведав и до встречи с Юрием Павловичем и потом вместе с ним всю горькую непосильность блокадных месяцев. Он по необходимости стал верхолазом, сначала пряча, маскируя от врага, а потом исследуя и готовя к воскрещению Исаакий и Казанский собор, Смольный и Петропавловку. За этой сложной и опасной работой он, вероятпо, не раз вспоминал, как мальчиком забирался на шпиль колокольни Снетогорского монастыря, чтобы наглядеться на прекрасный родной город, вошедший тогда в его сердце с неотменимой окончательностью. Это допущение тем естественнее, что в голод и холод блокадных дней художник сделал цикл цветных карандашных рисунков «По Пскову XVII века» (карандашных — потому что акварель в нетопленой квартире замерзала). Цикл уподобляли йотом васнецовской московской серии. Только у Спегальского первенствовала не живопись, а предельно верное чутье архитектора, успевшего понять организм родных, навек утраченных построек не только умозрением, но памятью руки, трудом каменщика, делавшего теми же инструментами ту же работу на той же земле. Город жил в листах счастливо, мирно, покойно, в целости и богатстве своей обыденной жизни — бежали мальчишки, степенно встречались «мужи-псковичи», чудские ладьи шли в Рыбники при хороших парусах, девушки с гульбищ высматривали знакомых парней… В самом покое цикла была не кичащаяся собою сила и святая уверенность в победе родного народа. Тогда же, в 1943 году, была нарисована «Азбука, посвященная древней псковской архитектуре», где белели апсиды, высились башни, золотились яблоки крестов, словно и не было в этот час на родной земле врага и разора.
Он торопил освобождение Пскова и с первой возможностью выехал туда, чтобы обмерить, описать, оберечь то, что еще оставалось в городе живого после немецкого пленения. В воспоминаниях Аршакуни есть замечательный эпизод, когда художник день за днем ищет в прахе и пепле разбитой Пароменской церкви «золотого» голубя, сидевшего некогда на кресте этого храма (как сидит он на кресте новгородской Софии), словно от того, что он найдет этот символ святого духа, Псков скорее воскреснет в прежней полноте и силе. И ведь нашел! И как был счастлив, когда голубь засверкал в его руках, как ободрение и надежда!
Проектно-реставрационная мастерская тогда в сущности только звалась мастерской — рабочих в 1946 году было всего двое, но Спегальский работал без передышки, торопясь зафиксировать обнаженные войной памятники, вычитать план прежних застроек и предложить припципиалнпо новый проект архитектурных заповедников с сохранением пространственио-планировочной структуры XVII века. Однако идеи, которые впоследствии восторжествовали в Праге и Варшаве, когда восстанавливалось все до камня и торжествовали благодарность и память, показались дики тогдашним вершителям архитектурных судеб города, и прозвучало страшное предложение уничтожить все руины старых памятников, оставив несколько «для колорита». Это тяжело сейчас читать: «Идея Ю. П. Свегальского не нашла поддержки: „Спегальский хочет вернуть Псков в семнадцатый век, а мы хотим сделать его социалистическим»».
Такое краспоречие было небезобидным. Проект отклонили, даже по-настоящему не обсудив, просто убрали с глаз долой,
и мне не кажется преувеличением предположение Аршакуни, что им пользовались потом только для того, «чтобы новые многоэтажные здания ставить как раз поперек тех улиц, которые были намечены проектом Спегальского к сохранению». Сейчас довольно поглядеть, в каком унижении находится одна из лучших псковских церквей, Сергия с Залужья, загнанная во двор огромного, просто отменившего ее дома, или как раскинулся жилой дом псковского руководства, поставленный несколько лет назад вопреки несчетным протестам реставраторов прямо в сердце средневекового города.
Спегальскому предстояло снова двадцать лет быть оторванным от желанного дела и дома, работая то в ленинградском филиале Академии архитектуры, то в отделении Института археологии, а по вечерам еще и каменщиком, чтобы рука не расслаблялась. Но в том-то и драматизм и величие предназначения, что вся лучшая, дорогая сердцу работа этих лет устремлена у него все туда же, к тому же Пскову — так стрелку компаса только изломать, но не заставить переменить направление. И опять каждый свободный час он обмеряет в Пскове Снетогорский и Крынецкий монастыри, подвалы домов Ямского и Подзноевых. В эти годы он выпускает монографию «Псковские каменные жилые здания XVII века», вокруг которой споры не только не утихают по сей день, но по-настоящему еще предстоят. Гипотеза Спегальского о деревянных жилых этажах на зданиях, которые всегда полагались только каменными, существенна не для одного Пскова, но для всего средневекового русского зодчества. И хоть реставраторы настойчиво отрицают существование следов таких этажей, но все-таки и не решаются категорически отказаться от предположения ученого, потому что оно обосновано с такой убедительной глубиной и неотменимыми свидетельствами обмеров самого ученого, заставшего памятники в более живом виде.
что все возражения слабее и оглядчивее доказательств первооткрывателя.
Дом Печенко. Реконструкция.
А был еще в эти годы путеводитель, который странно и называть так, настолько он был целен, настолько яспо излагал и обосновывал историю псковской архитектуры. Не зря историк, лауреат Ленинской премии Н. И. Воронин писал тогда Спегальскому: «Ваша книга — большое событие… Для меня она была подлинным открытием Пскова». Воронин отмечал и драгоценность реконструкций, иллюстрирующих книгу. Сейчас можно убедиться в ценности этих реконструкций и всего прежде помянутого мной материала (блокадные рисунки, азбука, обоснование архитектурных заповедников) по книге Ар-шакуни «Народное зодчество Пскова». Там легко увидеть и как выговаривается тоска ученого по родному миру даже в простых бытовых предметах, окружающих его дома.
Он не только воспроизводит цветовые разработки изразцовых печей — он одну из них строят в своей ленинградской квартире, и она дивит гостей чудом рисунка и цвета. Он расписывает столешницу сюжетами русского древнего гостеприимства, узорочьем славянских текстов, славящих хозяйку, достаток и честь дома. Владея топором с мастерством самолучшего плотника, он вырубает и расписывает домашние «паникадила» — и гуляют в рисунках Милитрисы и Гвидопы, Анастасии Вахрамеевны и Ерусланы Лазаревичи, и бежит по дереву неизменно старое слово: «Паникадило телесное освещает едину храмину, а душевный светильник освещает дом весь и согревает во нощи и во дни живущих в нем и приходящих, аки солнце красно». Художник утоляет печаль, вырезая пряничные доски с веселыми псковичами, украшая росписями сундуки и шкапы, посуду и коробьи, а чаще всего расписывая большие запавеси на окна или в «опочивальню», чтобы и сны были о том же: «…а мне бы снилось приволье былое, земля родная Псковская, Пскова-река, по камешкам журчащая, старинный дом, тихий наш старый сад, снились бы старые друзья, каменщики псковские да каменная работа».
Проект реставрации церкви Николы с Усохи.
И в письмах «старым друзьям» в Псков оп торопится удержать все до малости и напоминает былое как из дальней невозвратной дали: «Что сталось хотя бы с нашим обширным двором, таким чистым и зеленым, что в любом месте можно было пасть на землю и хоть целовать ее» и перечисляет, перечисляет всякий куст и всякий камень, чтобы потом с печалью свидетельствовать, что «этих чудесных мест нет — они заменены грязной, истоптанной ногами землей, будто тут все выжгли…».
Видел ли он в свои приезды, что город реставрируется? Конечно! И радовался каждому прибавлению, но он видел и гибельность частной (без памяти о целом) реставрации: «Стоит церковь с восстановленными в первоначальном виде формами крыш и проч. Тут бы и любоваться ею, но… это невозможно! Она торчит на каком-то островке, а вокруг ее окружают асфальтовые площади, многоэтажные дома. Вид у нее никчемный, нелепый. Все равно как если бы посадили в современном учреждении служащего, одев его в лапти, онучи, рубаху с ластовицами и валяную шляпу — гречовник. А вокруг — пишбарышни, машинки, телефоны… А мужик сидит с рукавицами и кнутом за поясом…».
Не это ли мучает нас сейчас в реставрации не одного Пскова, но Новгорода, Вологды, Ярославля, той же Москвы (вспомнить одну несчастную церковь Симеона Столпника на Калининском проспекте, лишенную крестов, смысла и последней памяти об умиравшем здесь Гоголе)?
Во всем: от письма (а письма его драгоценны речью, игровой культурой, умением видеть мир глазами человека XVII века) или домашнего рукоделия до обстоятельного исследования — он был сыном псковской земли, того родового, целостного, прапамятного чувствования, о котором мы теперь только догадываемся, по почти не встречаем в реальности. Школой тут не возьмешь — это живет во всем составе плоти и духа. Мы теперь часто клянемся в любви к Отечеству и много говорим о наследовании и памяти, но отчего-то в этом мерещится нередко оттенок интеллектуального самодовольства, и как-то очень видно, что мы любим
Ю. П. Спегальский. Поганкины палаты. Реконструкция
родное с беллетристической отвлеченностью, словно издалека. И узнавать сейчас в Спегальском такую фанатическую срод-ность, такую коренную неотделимость от родового места — великий урок и духовная поддержка. Я не могу вразумительно объяснить своего чувства, по мне видится в этом примере здоровая надежда на то, что дух единства еще вполне жив и в нас и с такими учителями окрепнет и мы еще способны будем вернуться к целостному пониманию мира.
Поганкины палаты.
Он и в себе как будто спешил досмотреть все возможности и что возможно воссоединить — в настоящем даре всегда острее других иссушающая тревога ответственности перед полнотой духа и мира: «Изразцы, печи, киоты, интерьеры псковских палат, книги о псковских каменщиках, о древнем русском жилище, виды древнего Пскова, картины его жизни — все это требует — сделай, сделай меня скорее, неужели ты так уйдешь, не породив нас, не дав нам жизни? И я чувствую: не сделать что-либ(7 из этого — предательство с моей стороны по отношению к тому, что я любил. И сижу. Но такой темп исполнения моих замыслов!.. Чтобы сделать все — нужны десятилетия!..».
Этих десятилетий у него не было. И как он был рад, что наконец родной город пригласил его! В ожидании окончательного решения он делает еще одну роспись — Аршакуни справедливо зовет ее текст молитвой: «…Дай мне хоть единый раз, открыв окно, узрети за ним стародавний Псков и мужей пскович, и жен псковитянок, и избы, и полаты славного города…». Он увидел все это, но проработал в Пскове только сто пятьдесят дней. Изношенное, долго отлучаемое от единственного дела, к которому было призвано, сердце не выдержало, и 17 января 1969 года после первого производственного собрания в реставрационной мастерской Спегальский скончался.
Что же теперь? Боязно думать, что все ограничится музеем, благодарностью О. К. Аршакуни за подлинно подвижнический труд подготовки и издания основных работ исследователя, и жизнь ученого и архитектора отойдет в предание. Сохрани Бог! Даже если это предание будет очень почетным, оно будет только последним предательством по отношению к этому большому русскому человеку и художнику. Наш философ Н. Ф. Федоров замечательно верно писал, что музей разумен только тогда, когда его материалы становятся предметом исследования и когда в дальнейшем «исследование сделается совокупным самоисследованием и таким образом приведет к тому, что за смертью воскрешение будет следовать непосредственно» .
В нашем случае воскрешение будет затруднено, потому что речь идет не о произведениях живописи или прикладного искусства, а о более синтетическом искусстве. Кстати будет вспомнить Поля Валери, верио считавшего, что «живопись и скульптура — брошенные дети. У них умерла мать — мать их Архитектура. Пока она жила, она указывала им место, назначение, пределы. Пока она жила, они знали, чего хотят». Для Спегальского эта великая мать искусств была жива и естественно влекла за собой для него и живопись, и прикладное искусство, и прекрасно ощущаемое слово — как единое живое тело культуры. Сегодня есть достаточно частных специалистов, тонко понимающих какую-нибудь одну область знания, одну ветвь нашего наследия. И они прекрасно справляются с этими частностями, но Спегальский справедливо говорил об «утрате способности воспринимать красоту». Красота — понятие единое, многообъемлющее и перспективно-созидательное только в том случае, когда именно как целое и сознается.
Наследие художника драгоценно именно как прекрасный пример синтеза, как «открытый урок», где все на виду, где каждое слово, каждый предмет и каждая линия доверчиво явлены всякому, кто пожелает понять и услышать. Оно — все в будущем, и лучшим выражением нашего понимания ценности сделанного ученым будет живое усвоение его здоровых заветов любви, внимания, бережности к родимому дому и благодарное воплощение и спасение того, что еще можно спасти для русской истории, для нашей сыновней по отношению к прошлому жизни, для ищущей исцеления целостной, духовно непрерывной русской культуры.
Валентин КУРБАТОВ